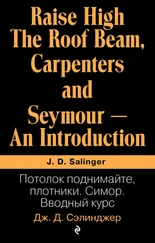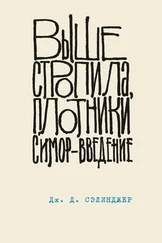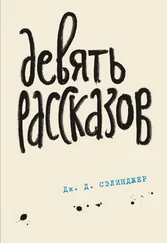Дождь шел прямо на чертово надгробье, прямо на траву, которая растет у него на животе [313].
«Это ставит Холдена в один ряд с уважаемыми литературными персонажами, чувствующими, что их молодость потеряна на войне». Сэлинджер не написал книгу о солдате, сражавшемся с врагом; он написал книгу о подростке, ведущем войну с обществом и с самим собой. И, подобно Сэлинджеру, Холден не может найти помощь, которая нужна ему для исцеления. «Специалисты по психическим заболеваниям, которые должны были оказать помощь Сэлинджеру, не станут слушать его рассказов об ужасах, которые он перенес и свидетелем которых он стал, – пишет Роджерс. – Затем Сэлинджер возвращается домой, научившись, как избегать помещения в психиатрическую больницу, и становится свидетелем блеска общества, восторгающегося тем, как он скрывает симптомы своего заболевания» [314].
«Жесткость, нелепость, зверство и ужас войны каким-то чудесным образом превратились в приторные и бессмысленные речи, песни и фильмы. Все это, не имея ни малейшего отношения к правде войны, не принесет добра, ибо проблемой будет даже не то, что люди не будут понимать войну лучше, а то, что люди просто не будут задумываться о войне» [315].
Посидели бы вы там подольше, послушали бы, как эти подонки аплодируют, вы бы весь свет возненавидели, клянусь честью [316].
Безразличие – вот что вызывает и питает гнев Холдена. Роджерс пишет: «Отныне Сэлинджер вступает в конфликт, если не в борьбу за самое свое существование, не с комплексом переживаний, которые навечно повредили его, а с обществом умышленной наивности, обществом, которое производит смерть и разрушения, а после «победы» продолжает заниматься людоедством под приветственные крики тех, кто не называет вещи их подлинными именами. А тех, кто называет вещи их подлинными именами, общество отправляет в психиатрические лечебницы» [317].
Впрямую написать об этом Сэлинджер не мог: «для того, чтобы получить одобрение массового читателя» ему надо было «изменить контекст, выбрать персонажей и ситуации, которые никак не были бы связаны с войной, сделать ощущение отчуждения всеобщим. В таком контексте он мог проявить собственные переживания и мысли, не опасаясь ни психиатров, ни патриотов, и представить свой конфликт с фальшивками и ерундой» [318]. Так Сэлинджер придумал Холдена Колфилда.
Сэлинджер не может призвать память о своих убитых товарищах так, как Холден вспоминает тело разбившегося Джеймса Касла. Сэлинджер не может горевать о погибших, поэтому Холден скучает об Экли и Стрэдлейтере. Сэлинджер не может вспоминать о подталкивающем к самоубийству отчаянье, которое охватило его после Кауферинга, поэтому Холден раздумывает о самоубийстве. «Сэлинджер никогда снова не станет мальчиком, который ходил в частную школу, – пишет Роджерс, – поэтому Холден был Сэлинджером, которого никогда снова не будет» [319].
А когда я окончательно напился, я опять стал выдумывать эту дурацкую историю, будто у меня в кишках сидит пуля. Я сидел один в баре, с пулей в животе. Все время я держал руку под курткой, чтобы кровь не капала на пол. Я не хотел подавать виду, что я ранен. Скрывал, что меня, дурака, ранили [320].
Холден танцует со своей маленькой сестренкой Фиби. «И тут я взял и ущипнул ее за попку. Лежит на боку калачиком. А зад у нее торчит из-под одеяла. Впрочем, у нее сзади почти ничего нет» [321]. Игра с телом маленькой девочки – начало духовного пробуждения. «Вы бы посмотрели на Фиби. Сидит посреди кровати на одеяле, поджав ноги, словно какой-нибудь йог, и слушает музыку. Умора!» Чувствительность автора – его личная травма. Параноики, мистики и педофилы рассуждают так: «Вообще я не терплю, когда взрослые танцуют с малышами, вид ужасный. Например, какой-нибудь папаша в ресторане вдруг начинает танцевать со своей маленькой дочкой. Он так неловко ее ведет, что у нее вечно платье сзади подымается, да и танцевать она совсем не умеет – словом, вид жалкий. Но я никогда не стал бы танцевать с Фиби в ресторане. Мы только дома танцуем, и то не всерьёз» [322]. Дети потенциально – мертвые взрослые. Мудрец из леса Хюртген должен давать детям уроки на дому. В конце концов, мир Холдена/Сэлинджера – это мир пропавших без вести; нервный срыв – это духовно-военная прогрессия. Здесь нерешительность, колебания психики, выбирающей между молчанием ветерана («Никогда никому ничего не рассказывай. Если расскажешь, начнешь тосковать по всем»), изоляцией («Так я остался в могиле один. В каком-то смысле мне это нравилось. Было так хорошо и покойно»), утратой тела («После того, как я ушел, мне стало лучше») и новой, стирающей память пулей («В общем, я рад, что изобрели атомную бомбу. Если когда-нибудь начнется война, я усядусь прямо на эту бомбу. Добровольно сяду, честное благородное слово» [323]). «Над пропастью во ржи» – бесконечная война Америки в словах.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
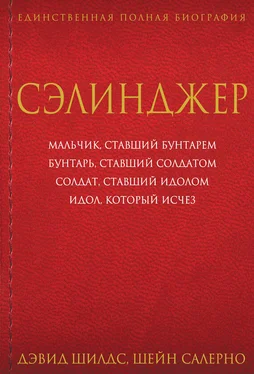
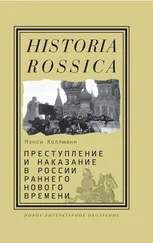
![Джером Дэвид Сэлинджер - Ранние рассказы [1940-1948]](/books/74234/dzherom-devid-selindzher-rannie-rasskazy-1940-1948-thumb.webp)


![Джером Сэлинджер - Дж. Д. Сэлинджер [litres]](/books/384574/dzherom-selindzher-dzh-d-selindzher-litres-thumb.webp)
![Бриана Шилдс - Заклинатель костей [litres]](/books/433662/briana-shilds-zaklinatel-kostej-litres-thumb.webp)