Она пристально взглянула на гирлянду. «Да уж, вижу, что для вас Вернер делает куда больше, чем делал для нас, верно, Барбль?»
Она осмотрела и аккуратно рассортированные инструменты и кисти. «Он считает себя художником. Жаль, что талантом он обделен».
Не помню, достался ли Барбль от матери прощальный поцелуй. Я напряженно ждала, когда Элизабет выйдет из квартиры. Я стояла у окна, дожидаясь, когда она появится на улице. Я ждала и ждала, пока она наконец не исчезла за углом. Я вздохнула свободно, лишь убедившись, что она действительно ушла.
«А где портрет Гитлера? – спросила Барбль. – У нас дома портрет Гитлера висит в каждой комнате».
«Наш в починке, – объяснила я. – Он упал и разбился, стекло придется заново склеить. Это займет некоторое время. Потом, конечно, мы вернем его на место. Хочешь сладенького?»
«Ага», – согласилась она.
Я угостила ее кнедликами, маленькими картофельными шариками, отваренными на пару и присыпанными сахарной пудрой. В каждом пряталась целая клубника.
Уже много позже, в другой стране, уже выйдя замуж за шотландца и воспитывая сыновей, Барбль вспоминала именно это блюдо – венские кнедлики, начиненные клубникой.
Каждый день мы – я, высокая четырехлетняя девочка и моя малышка в коляске – ходили на прогулку. Все, что я делала с Ангелой, Барбль повторяла на кукле. Я купала дочку, а она – куклу. Я сцеживала молоко из груди, чтобы залить его в бутылочку – она тоже «сцеживалась» и кормила куклу из бутылочки. Когда мы кого-нибудь встречали на улице, я говорила: «Доброе утро», а Барбль – «Хайль Гитлер!»
«Хайль Гитлер!» – приветствовала она садовника, дворничиху и разносчика карточек. Наверное, все думали, что я идеальная нацистская мать.
Я полюбила Барбль. Она была очень милой, к тому же, пожив у нас, постепенно перестала говорить «Хайль Гитлер». Я не была строгой. Тогда я не работала, и времени на детей у меня было предостаточно.
Шесть недель, которые Барбль провела у нас, прошли так чудесно, что Элизабет почувствовала угрозу. Следуя духу того времени, она донесла на нас с Вернером властям и указала какие-то причины, по которым нам «не следовало» доверять ее ребенка. Суд постановил, что к нам домой придут для проверки две социальные работницы.
Как всегда, предстоящее столкновение с бюрократией привело меня в ужас. К тому времени я прожила с Вернером уже больше года и успела немного расслабиться. А что, если что-то, что он перестал замечать, выдавало во мне еврейку? А что, если что-нибудь в доме говорило: «Эта женщина училась в университете, изучала юриспруденцию, умеет стильно одеваться…»?
Я попросила у Карлы, соседки сверху, портрет Гитлера, объяснив, что наш сейчас в ремонте. Она вытащила запасной из ящика.
Социальные работницы пришли без предупреждения. Это были типичные самодовольные нацистки в шляпках. В руках у каждой было по блокноту. Мой ангелочек спокойно спал в своей корзине для белья. «Боже, в этой плетенке она совсем как Моисей, плывущий сквозь камышовые заросли», – подумалось мне. Дамы расспросили меня о том, как обычно проходит день, как мы питаемся, заглянули в печку, проверили каждый угол на предмет пыли, отметили, какие книги стояли у нас в шкафу. Потом они ушли.
Через несколько недель мы получили письмо, где говорилось, что мы прошли инспекцию, что у нас самая что ни на есть образцовая арийская семья и что в единоличном праве на опеку Элизабет отказано. «Ребенку будет только полезно как можно больше времени проводить вместе с господином и госпожой Феттер», – так отозвались о нас те женщины. Мне всегда хотелось показать тем нацисткам их собственный отчет. Как здорово было бы уже потом, после войны, зайти к ним в кабинет и сказать: «Вот что вы написали о еврейке, лицемерные идиотки!»
Однако в жизни такие вещи случаются редко.
Я жила надеждами. Я никогда не думала о сестрах – только успокаивала иногда себя тем, что в Палестине они в безопасности. Я не думала ни о Мине, ни о других моих подругах из лагеря, и изо всех сил старалась не думать о маме. Видите ли, если бы я думала обо всех своих близких, я сошла бы с ума. Я не смогла бы больше скрываться под чужим именем. Поэтому я делала все, что могла, чтобы забыть страшные слова раввина Герца – что мы были лишь «остатками» – и убедить себя, что живу самой обычной жизнью.
«Обычной». Да, именно это слово я всегда использовала, когда рассказывала о тех годах. Я была матерью и домохозяйкой. Вела самую обычную жизнь. О Господи.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу





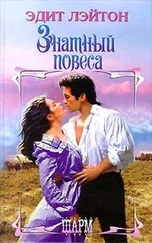
![Алексей Гришин - Вторая дорога - Выбор офицера. Путь офицера. Решение офицера [сборник litres]](/books/438728/aleksej-grishin-vtoraya-doroga-vybor-oficera-put-thumb.webp)





