Очень скоро нашу кухню-гостиную оплел виноград и плющ, в листьях которого прятались яблоки, морковки, редис, лук и вишенки. Эта гирлянда, воплощая в себе все прелести мирной жизни, словно заключала нас в какой-то магический круг.
Закончив роспись, Вернер ссутулился в центре комнаты и стал медленно поворачиваться, переступая ногами в запачканных краской ботинках. Его ярко-голубые глаза напряженно сверкали, выискивая места, нуждающиеся в доработке.
«Что скажешь?» – поинтересовался он.
«Скажу, что это очень красиво, – ответила я. – А ты – прекрасный художник».
Мы вместе сели на пол, и я крепко его обняла. И неважно, что на одежде кое-где остались пятна от краски.
Бракоразводный процесс завершился в январе, и я переехала к Вернеру. В момент, когда он закрыл за мной дверь, я превратилась в хорошо обеспеченную немку из среднего класса. Теперь у меня был дом и защитник. Я часто вспоминала Багдаштейн и благословение раввина, который сидел у моей постели, поглаживая мою руку, и молился за меня на иврите, и радовалась своей удаче.
Мы с Вернером жили очень мирно. Впрочем, помните, что я не могла тогда быть ему настоящей супругой, такой, как Элизабет или фрау Доктор – я не могла позволить себе спорить с Вернером и чего-либо от него требовать. Я делала все, чтобы угодить ему, и никогда и ничем не напоминала ему, что я еврейка. Я хотела, чтобы мой любимый об этом забыл, чтобы этот неприятный факт остался пылиться где-нибудь на задворках его сознания – как осталась для меня сама Эдит Хан. Все свои силы и воображение я бросила на то, о чем соврала Вернеру: я стала учиться готовить. Фрау Доктор прислала мне несколько пачек чечевицы и книгу рецептов. «Готовь с любовью», гласила ее обложка, и, уж будьте уверены, это я и делала.
Каждое утро я вставала в пять утра, чтобы приготовить нам завтрак и собрать обед для Вернера. Потом он уезжал на работу на велосипеде. Сама я по утрам ела картошку: хлеб уходил на обеденный бутерброд для мужа. До моего приезда Вернер постоянно недоедал, он явно был не способен следить за своим питанием. Сначала у него часто болела по вечерам голова – это были голодные головные боли, с которыми я была так хорошо знакома. Зная, как он страдает, я старалась получше его кормить. На случай, если я задержусь вечером в Stdtische Krankenhaus , городской больнице, куда меня направил Красный крест, я научила Вернера готовить Kartoffelpuffer , драники. После моего переезда Вернер набрал два килограмма.
Из Берлина к нам часто приезжала тетя Паула Симон-Колани, миниатюрная, но властная женщина, которая сразу мне понравилась. Берлин постоянно бомбили, и ей хотелось от этого отдохнуть. Она рассказала, что в семье Вернера по наследству передается болезненная страсть к чистоте.
«Почаще вытирай пыль, моя дорогая, – наставляла меня тетя Паула. – И хорошенько. Как будто от этого зависит твоя жизнь».
Как выяснилось, это был очень хороший совет. Однажды Вернер вернулся домой первым и, поддавшись приступу семейной болезни, провел пальцем по верхнему краю двери, чтобы проверить, есть ли там пыль. С его ростом это было нетрудно. Мне для этого приходилось вставать на стул. Но, слава Богу, тетя Паула меня обо всем предупредила, и я не поленилась вытереть пыль и там. На двери было абсолютно чисто.
«Я очень доволен тем, как ты поддерживаешь чистоту, – похвалил он меня тем вечером. – Даже на дверях сверху нет пыли. Это хорошо. Это очень хорошо».
«Если честно, у меня было преимущество – тетя Паула предупредила, что ты обязательно проверишь», – рассмеялась я, сидя у него на коленях и пропихивая пальцы ему под рубашку, чтобы пощекотать. Пожалуй, Вернер тогда даже немного смутился. По крайней мере, больше он вопрос уборки не поднимал.
Вернер терпеть не мог подчиняться. Опасное качество, если учесть, что мы жили в самом авторитарном обществе того времени.
Мне кажется, что в этой борьбе оружием Вернера была ложь. Врал он вдохновенно. Я врала по мелочам, и очень правдоподобно, он же – глобально и красочно. Если ему не хотелось идти утром на работу, он мог сказать, что ВВС Великобритании разбомбили дом его брата в Берлине, дети остались на улице, и ему нужно к ним поехать. И ему верили.
Вернер обожал врать своим начальникам. Ложь давала ему ощущение свободы, он начинал чувствовал себя главнее директоров Арадо – потому что он знал что-то, чего не знали они, и, кроме того, он отдыхал, а они работали.
Много лет спустя я подружилась с одной из его последующих жен. От нее я узнала, что мой отец якобы совершил самоубийство, привязав к шее печатную машинку и выбросившись из окна. Зачем Вернеру было такое выдумывать? Может, он хотел развлечь жену или развлечься самому, может, ему казалось, что жизнь слишком скучная. Иногда я даже думаю, что жизнь со мной так привлекала Вернера именно из-за неизбежной лжи всему миру. Зимой 1942–1943 года мало кто из немцев мог похвастаться, что у него дома есть послушная, тихая, умеющая готовить, шить и убираться, да еще и любящая его еврейка.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу





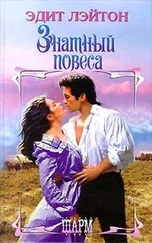
![Алексей Гришин - Вторая дорога - Выбор офицера. Путь офицера. Решение офицера [сборник litres]](/books/438728/aleksej-grishin-vtoraya-doroga-vybor-oficera-put-thumb.webp)





