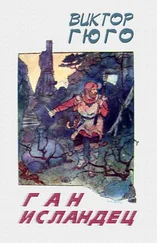Они ошибались. Если фальшь действительно господствует как в стиле, так и в действии некоторых французских трагедий, то винить в этом следует не стихи, а стихотворцев. Нужно было осуждать не использованную форму, а тех, кто ее использовал; работников, а не инструмент.
Чтобы убедиться, сколь мало препятствий природа нашей поэзии противополагает свободному выражению всего правдивого, возможно, нужно изучать наш стих не у Расина, а, скорее, у Корнеля или еще лучше у Мольера. Расин, дивный поэт, элегичен, лиричен, эпичен; Мольер драматичен. Пора отдать должное критике, обрушенной дурным вкусом прошлого века на этот изумительный стиль, и громко заявить, что Мольер стоит на вершине нашей драмы не только как поэт, но также и как писатель. Palmas vere habet iste duas. [47]
Стих у него объемлет мысль, тесно сливается с нею, одновременно ограничивает и развивает ее, придает ей более стройный, более точный, более полный вид и предоставляет ее нам, так сказать, в концентрированном виде. Стих – это зрительная форма мысли. Вот почему он особенно подходит для сценической перспективы. Построенный определенным образом, он сообщает свою выразительность тому, что без него показалось бы незначительным и тривиальным. Он делает ткань стиля более прочной и более тонкой. Это узел, который закрепляет нить. Это пояс, который поддерживает одежду и создает все ее складки. Что же могли бы потерять природа и истина, облекаясь в стих? Спросим об этом у самих наших сторонников прозы, что теряют они в поэзии Мольера? Разве вино, да будет нам позволена еще одна банальность, перестает быть вином оттого, что оно налито в бутылку?
Если бы у нас было право высказаться по поводу того, каким мог бы быть, на наш взгляд, стиль драмы, мы хотели бы стих свободный, открытый, искренний, решающийся все высказать без преувеличенной стыдливости, все выразить без манерности; естественным образом переходящий от комедии к трагедии, от возвышенного к гротескному; вместе эмоциональный и поэтический, но всегда художественный и вдохновенный, глубокий и неожиданный, широкий и правдивый; умеющий вовремя ломать и переставлять цезуру, чтобы скрыть свое александрийское однообразие; более тяготеющий к переносам, которые его удлиняют, чем к инверсии, которая его запутывает; верный рифме, этой рабыне-царице, этой высшей прелести нашей поэзии, родоначальнице нашего размера; неисчерпаемый в разнообразии своих оборотов, неуловимый в тайнах своего изящества и манеры; принимающий, подобно Протею, тысячу форм, не меняя при этом своей сущности и характера, избегающий тирад ; забавляющийся в диалоге; всегда скрывающийся за персонажем; заботящийся прежде всего о том, чтобы быть на своем месте, а когда ему случится быть красивым , то как бы случайно, помимо своей воли и не сознавая этого; [48]лирический, эпический, драматический, по мере надобности; способный охватить всю гамму поэзии, пройти ее сверху донизу, от самых возвышенных идей до самых вульгарных, от самых забавных до самых серьезных, от самых поверхностных до самых отвлеченных, никогда не выходя за пределы данной сцены; одним словом, такой, каким бы его создал человек, если бы некая фея одарила его душой Корнеля и умом Мольера. Нам кажется, что такой стих был бы так же прекрасен, как и проза .
Не было бы ничего общего между этой поэзией и той, которую мы только что вскрыли, как труп. Тонкое различие между ними будет легко установить, если один умный человек 26, которому автор этой книги обязан личной благодарностью, позволит нам позаимствовать у него остроумное определение: та поэзия была описательной, эта была бы живописной.
Повторим это еще раз, стих в театре должен отбросить всякое самолюбие, всякие требования, всякое кокетство. Там он лишь форма, такая, которая должна все допускать, ничего не навязывать драме, и, напротив, все получить от нее, чтобы все передать зрителю: французский и латинский языки, тексты законов, королевскую брань, народные выражения, комедию, трагедию, смех, слезы, прозу, поэзию. Горе поэту, если его стих будет привередничать! Но форма эта – форма бронзовая, которая обрамляет мысль своим размером, делает драму несокрушимой, запечатлевает ее в мозгу актера, указывает ему то, что он пропускает или добавляет, не дает ему испортить свою роль и заменить автора, делает священным каждое слово и поэтому то, что сказал поэт, надолго остается в памяти слушателя. Мысль, пропитанная стихом, внезапно становится более острой и сверкающей. Это железо, которое становится сталью.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
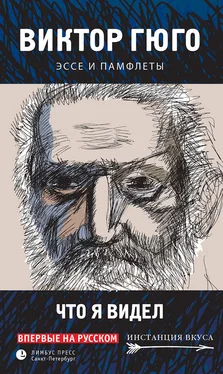
![Виктор Гюго - Собор Парижской Богоматери [Notre-Dame de Paris]](/books/30985/viktor-gyugo-sobor-parizhskoj-bogomateri-notre-thumb.webp)