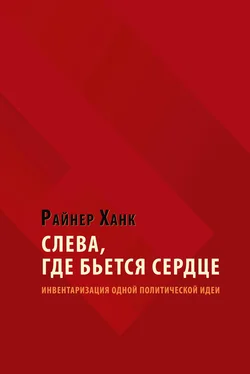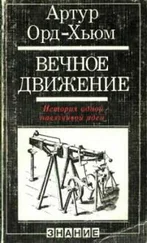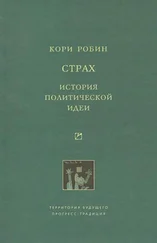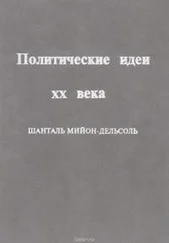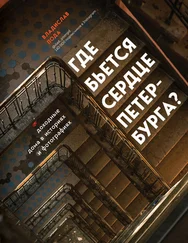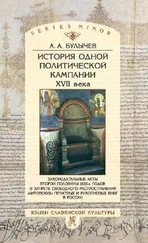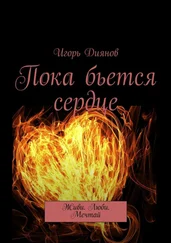Могло ли случиться так, что шок и стыд из-за неожиданного краха социализма способствовали тому, что мы уже больше не стремились к поиску взаимопонимания по поводу метаморфоз левого мышления и его альтернатив? Тот, кто провозглашает «конец истории» и для этого без раздумий готов растоптать историко-философскую левую утопию («ностальгия по будущему»), которой вдохновлялись целые поколения, не должен удивляться по поводу «амнезии настоящего времени». При этом подозрение в амнезии касается как консерваторов и либералов, так и той поседевшей буржуазии, которая по-прежнему считает себя левой, поскольку это самонаименование улучшает моральный настрой.
Еще раз: почему мы тогда были левыми?Что из этого сохранилось? Почему другие позднее не стали левыми? Почему для многих расстаться со старой верой или придать ей новые, более зрелые формы оказалось не так трудно, как мне? И как далеко моя сегодняшняя позиция влечет меня самого, и насколько она может убедить других или как минимум подвигнуть их к участию в полемике?
Инвентаризация – трезвый процесс, который, однако, не оставляет человека безучастным. Тот, кем я являюсь сегодня, приветствует того, кем я когда-то был. Встреча с самим собой по прошествии сорока лет не всегда протекает просто. Речь идет о прожитом, но необязательно понятом отрезке современности. Биографии других людей – частью несколько старше, частью несколько моложе меня, – о которых рассказывается в разных частях книги, должны помочь внести ясность в диковинное хитросплетение как типичных для когорт, так и исключительно индивидуальных взглядов.
«Вот мой блокнот, моя плащ-палатка, мое полотенце и нитки мои», – говорится в конце стихотворения Гюнтера Айха «Инвентаризация» (1945). Речь идет о том, чтобы воспринять чью-то историю, как свою. Надежда на то, что этот опыт даст толчок параллельным процессам восприятия.
II
Почему алчность делает сердце холодным и где живет тепло. Почему красивые женщины сплошь левые и как это связано с нашими ценностями
Как у человека вообще появляются ценности, позиции, точки зрения, предпочтения?До решающих событий 1972 года и моего переезда в Тюбинген было ведь уже много ранних влияний. Я рос в центре Штутгарта, где было, правда, много банков, правительственных зданий и универмагов, но не было жилых домов, поэтому с ранних лет два соседа стали для меня особенно важными: церковь и театр. Католическая церковь, буквально стеной к стене примыкающая к зданию банка, в котором мой отец работал комендантом и где находилась наша служебная квартира, после раннего ухода из жизни моей мамы в 1961 году стала для меня чем-то вроде замены чувству безопасности. Как для многих католических мальчиков моего поколения, близкое знакомство с христианской верой началось с прислуживания в качестве министранта. Поскольку это происходило еще до Cобора, было, разумеется, большое количество пышных одеяний, много фимиама, много латыни, а на Рождество, Пасху и другие праздники всегда исполнялась большая месса Гайдна или Моцарта с солистами и большим шумом вокруг. В католических мессах, как минимум в то время, присутствовали некая эстетика и театральность, и они служили для маленького министранта подходящим местом самопредставления. Да и дома тоже – мне было шесть или семь лет – часто в форме литургий исполнялись мессы и совершались майские богослужения в честь Девы Марии. Я цитирую великого Томаса Готтшалька: «Моя мама должна была исполнить пять аккордов на пианино, после этого начиналась процессия: я перемещался в гостиную, благословлял присутствующих и, водрузившись на кресло, произносил свои проповеди».
Примерно так же, только без фортепианных аккордов, можно представить себе происходящее и в моем случае. Тогда еще существовали большие процессии по поводу праздника Тела Христова с поклонением Святым дарам, опыт, который был мне очень приятен. Еще и еще раз повторю за Томасом Готтшальком: «Все мои воспоминания положительные. Для меня церковь в то время значила следующее: романтику костров в молодежных лагерях, фимиам латинских месс и лучи утреннего солнца, которые преломляются в мозаике церковных окон».
После Собора, в конце 60-х годов, нам в эстетическом самоотнесении литургии стало не хватать критического элемента, ибо, как мы считали, христианство также должно было изменять мир, а не только славословить его с большим количеством фимиама. Тогда мы начали ворчать, спорить со священником, называть оркестровые мессы выражением распространенного потребительства, обвиняли литургию в неправдоподобности и высказывались в том смысле, что Иисус жил не для того, чтобы в состоянии некоторого дурмана от фимиама отворачиваться от мира, а для того, чтобы поворачиваться лицом к бедным. Изменение общества с Новым Заветом: это было началом моего перехода на левые позиции. Друзья, которые позднее хотели отвратить меня от этого, говоря о католическом социализме, всегда меня этим очень обижали. Поскольку здесь звучит и обвинение в недостаточном анализе, т. е. такая позиция может признаваться лишь как интеллектуально несостоятельная. При этом мы ведь тоже хотели изменить мир, и именно в духе евангелизма.
Читать дальше