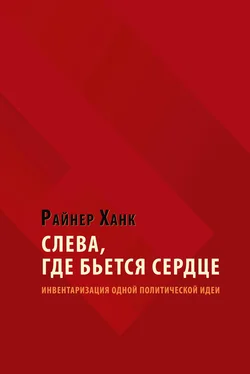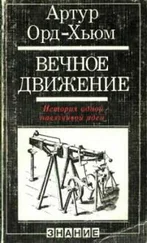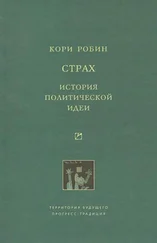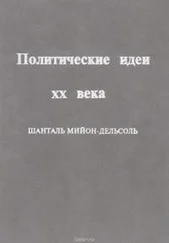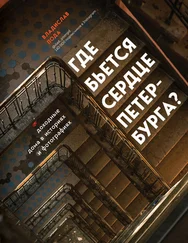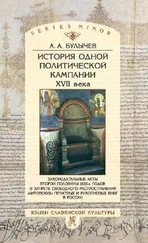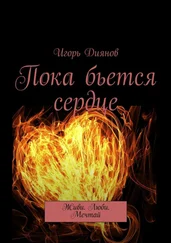Читая дальше «Эссе об освобождении» Маркузе, встречаешь и проявления восхищения в адрес Кубы, Вьетнама и «культурной революции» в Китае. Тут возникает чувство неловкости – или хуже, когда думаешь об огромном числе человеческих жертв, ответственность за которые несет Mao. Позднее Маркузе уже не пользовался таким высоким авторитетом, вероятно, потому, что он был так легок для понимания. Позже мы читали Адорно и Пауля Целана. Мы, правда, понимали там намного меньше, но зато все звучало весомее.
Для замкнутых сообществ характерен совершенно определенный вид слепоты. «Что видно и чего не видно» («Was man sieht und was man nicht sieht») относится не только к тому, что мы не смогли увидеть эпохальные сдвиги 1972/1973 годов. Мы видели и восхищались тем, как социалист и коммунист Сальвадор Альенде в 1973 году пришел к власти в Чили не с помощью кровавой революции, как в России в 1918 году, а в результате проведения демократических выборов. И Пабло Неруда был для многих из нас героем, вторым сразу после Маркузе. А вот чего мы не видели – или не хотели видеть – было то, что Альенде, намного быстрее, чем все коммунисты в ГДР или в СССР, в течение всего нескольких месяцев привел свою страну в состояние экономической разрухи, а людей обрек на горькую нищету.
Меня интересуют такие интеллектуальные картинки-загадки. Очень долго не удается рассмотреть вторую фигуру. Но если ее наконец-то удалось увидеть, она начинает казаться почти что собственно доминирующим элементом изображения, и нужно приложить усилия, чтобы вызвать в памяти прежнюю картинку. Как вообще можно было увидеть в этом преступнике Мао что-то положительное? Схожее со случаем с Альенде, только в перевернутом зеркальном отображении, произошло годом позже, в 1974 году: моя мама, женщина, далекая от политики, которая, однако, знала, что меня интересовали политические дебаты, подарила мне «Архипелаг ГУЛАГ» советского «диссидента» Александра Солженицына, эта книжка в синей бумажной обложке и сейчас еще у меня перед глазами. Не читая, я поставил книгу в книжный шкаф, немного даже стыдясь того, что бы произошло, если бы друзья и сокурсники обнаружили эту книгу у меня на полке. Из страха перед «аплодисментами не с той стороны» (охотно используемая идеологически иммунизирующая формулировка) мы отказывались участвовать в обсуждении преступлений коммунизма. Из-за того, что мне тогда было стыдно перед моими друзьями, мне сегодня стыдно перед моей мамой из-за того, что я тогда внутренне отверг ее подарок. Стыд – это воспоминание, очень тесно связанное с телом. Именно его, видимо, имеет в виду Ролан Барт, когда говорит, что состояние «вызывающей беспокойство близости» при последующем взгляде на собственное детство и юность требует связи с тем, что представляет собой “Оно” моего тела». Нужно попытаться представить себе это, даже если это бесперспективное дело. Речь идет о своего рода интеллектуальной морфологии: как и почему меняется коллективное восприятие одних и тех же событий? Но и: почему оно в одних случаях разрушает картинку-загадку, а в других нет?
Необходимо откорректировать представление о том, что взгляд в прошлое с сегодняшних позиций обладает тем абсолютным знанием, исходя из которого мы можем рассматривать примиряющим взглядом обе стороны картины: что мы тогда видели и думали и что мы тогда не замечали. Это было бы слишком хорошо, чтобы быть правдой. Даже чисто теоретически мы должны исходить из того, что мир и сегодня имеет образ картинки-загадки и мы различаем только одну фигуру (молодую девушку? старую женщину?) амбивалентности.
Марк Лилла, который в Колумбийском университете в Нью-Йорке преподает историю политических идей, называет это слепое пятно «амнезией настоящего времени». Он говорит так не только в том общем смысле, в котором любому настоящему недостает понятий для самого себя, но и в некоем вызывающем особое сожаление смысле, согласно которому нам сегодня недостает идеологий. Если раньше, говорит он, существовала «ностальгия по будущему», различные историко-философские проекты, с использованием которых левые и консервативные проповедники всеобщего блага вели друг с другом ожесточенные идеологические бои, то сегодня мы находимся в «нечитаемой эпохе», которую он называет «либертарной». Либертарным в ней он считает состояние слепого безвременья и отсутствия понятий, забвение бытия, для которого приемлемо всё и вся.
Можно на самом деле пожалеть о том, что слово «идеология» приобрело такую негативную окраску, что оно теперь используется только в отрицательном плане. Хуже сложилась лишь судьба прекрасного слова «мировоззрение», которого у сегодняшнего просвещенного современника не должно быть ни в коем случае. При этом мне всегда хочется спросить моих собеседников, как и откуда они взирают на мир. Точно так же и мои собеседники имеют право на то, чтобы знать мое мировоззрение. Но что в этом вызывает возражения? Субъективность точки зрения? Как будто существует возможность иметь позицию без точки зрения. Как будто это вообще было бы желательно.
Читать дальше