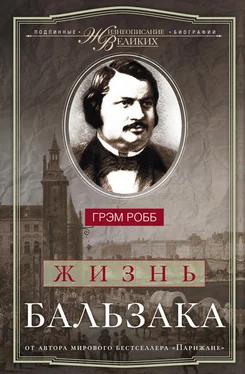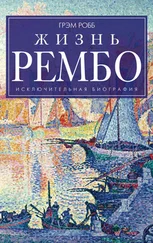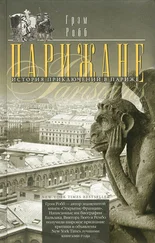Некто по имени Я, которого позже стали называть Скрибонием, а еще позже Рафаэлем, – второстепенный персонаж в «Неведомых страдальцах» (Les Martyrs Ignorés, 1837): «Живет на пятом этаже. С Пасхи до Рождества носит нанковые брюки со штрипками; зимой – толстые шерстяные брюки. На нем синий жилет с потускневшими пуговицами, ситцевая рубаха, черный галстук, туфли на шнурках, шляпа, которая блестит от дождя, и оливковое пальто. Обедает на улице Турнон на 21 су в ресторанчике мамаши Жерар в цокольном этаже, куда можно попасть, спустившись на две ступеньки ниже уровня тротуара… Обожает знания и жадно поглощает их, не успевая толком переварить…
Сейчас имеет 600 франков в год, но рассчитывает стать миллионером. Обжора, которого легко увлечь, всегда бесстрашно отправляется по следам очередной лжи. Побежденный на поле боя побеждает в шатре» 311.
Таков сам Бальзак в 1825 г., увиденный мудрым, но безжалостным взглядом обанкротившегося предпринимателя. Начиная с 1829 г. во всех его романах речь так или иначе заходит о долгах; каждая «история создания» в позднейших изданиях его трудов заполнена внушительными денежными суммами и подробностями выплаты процентов. И все же решительно лестный автопортрет в «Неведомых страдальцах» предполагает, что Бальзак даже накануне очередного смелого начинания испытывал подозрения относительно самого себя. В последнем сохранившемся письме к брату Лоранс предупреждала его, что ему недостает ума письмоводителя: стоит кому-то поманить его морковкой, как его фантазия тут же пускается вскачь. «Все говорят, что коммерция – единственный способ нажить состояние, но никто не знает, сколько народу нашло на этом пути свою гибель». Едва ли Бальзака обидело предсказание сестры, так как спустя три месяца, в июле 1825 г., он снова нарисовал автопортрет в письме герцогине д’Абрантес. Он собирался убедить ее в следующем: к каким бы выводам она ни пришла относительно его характера, она ошибется: «Не знаю более странного характера, чем мой… Мои 5 футов 2 дюйма содержат в себе все возможные непоследовательности и противоречия, и любой, кто считает меня тщеславным, развратным, упрямым, легкомысленным, бестолковым, пустым, небрежным, ленивым, нерасторопным, бездумным, непостоянным, болтливым, бестактным, плохо воспитанным, невежливым, ворчливым и капризным, будет так же прав, как и человек, который скажет, что я экономен, скромен, храбр, упорен, энергичен, неаккуратен (модная добродетель, которая контрастирует с “пустотой”), трудолюбив, последователен, молчалив, проницателен, галантен и всегда счастлив. Тот, кто назовет меня трусом, будет не дальше от правды, чем человек, говорящий, что я в высшей степени отважен… Меня можно, если уж на то пошло, называть ученым или невежественным, высокоталантливым или никудышным. Меня больше не удивляют никакие отзывы обо мне. Начинаю думать, что я – лишь орудие, на котором играют свою мелодию обстоятельства».
Застенчивая наивность Бальзака разоблачает себя как смесь романтизированного портрета и карикатуры сепией, сделанной Девериа и подаренной Лоре де Берни в 1825 г. с надписью «Et nunc et semper» («И ныне и всегда»). В данном случае правильно будет сказать, что Бальзак был верен своим противоречиям. Интересно сравнить рисунок Девериа с салонным портретом 1837 г. кисти Луи Буланже. Бальзак послал копию Эвелине Ганской на Украину, заранее предупредив ее, что Буланже видел в нем «только писателя, а не благожелательного идиота, которого всегда будут обманывать»: «Все мои несчастья происходят оттого, что я принимаю помощь, предлагаемую мне людьми слабыми, увязшими в колее бедствий. Из-за того, что я в 1827 г. пытался помочь одному печатнику, я в 1829 г. оказался раздавлен огромным долгом в 150 тысяч франков и очутился на чердаке, где нечего было есть» 312. С другой стороны, Девериа успел запечатлеть Бальзака еще до того, как тот придумал свой образ для публики. В многочисленных портретах Бальзака прослеживается почти логическая прогрессия: на них постепенно исчезает тот, кого он сам называет «идиотом». На рисунке Девериа в Бальзаке есть что-то от юродивого; особенно на правой стороне лица заметны луноподобные черты простака, и только чувственные губы и завораживающие глаза намекают на глубину или, возможно, напоминают о вере Бальзака в то, что гений часто надевает маску глупости. Бальзак указал бы и на зачатки второго подбородка, и на выдающийся лоб как на определенные признаки упорства и мощного интеллекта. Он бы привлек внимание физиогномиста к тому, что его нос, слегка раздвоенный на конце, – верный признак способности вынюхивать тайны, как гончая 313. Но и эти черты получают совершенно другой смысл из-за мятой рубашки и растрепанных волос, напоминающих о стиле, вошедшем в наши дни в моду благодаря Бобу Дилану. Девериа на самом деле изображает Бальзака настоящим кумиром 20-х гг. XIX в.: распахнутый ворот, женственная складка рта, полная расслабленность… Видимо, таким Бальзак был в двадцать пять или двадцать шесть лет. Перед нами все признаки того, что сам Бальзак в 1830 г. назовет «манией юности» и модой на «возвышенных детей», «зародышей, которые производят посмертные труды» 314.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу