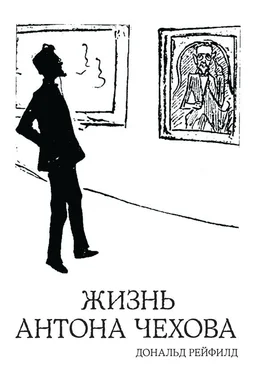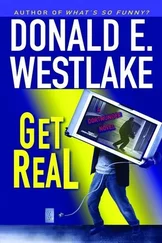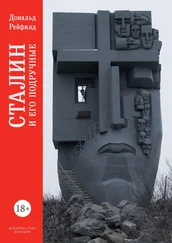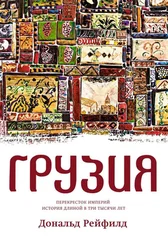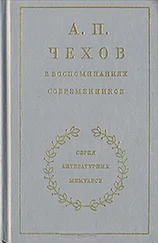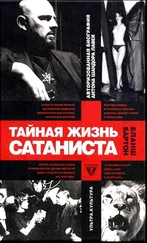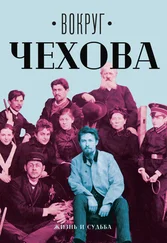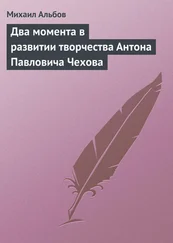Между тем у Чехова возникли первые сомнения в Суворине. В «Новом времени» Буренин жестоко раскритиковал любимца либеральных студентов поэта Надсона за то, что он притворялся «калекой, недужным, чтоб жить за счет друзей». Последовавшие за этим кровотечение и нервный паралич свели Надсона в могилу. Буренина объявили убийцей. В то же самое время Суворин ловко провернул коммерческую операцию с изданием десятитомника Пушкина тиражом в 40 000 экземпляров сразу же по истечении авторского права. Жестокость по отношению к умирающему поэту и быстрая нажива на авторских правах поэта уже умершего вызвали у публики одновременно неприятие его авантюризма и восхищение его деловой хваткой. Антон пришел в замешательство. Сам он почитал Надсона как поэта, гораздо большего, «чем все современные поэты вместе взятые». К тому же выяснилось, что Суворин не оставил для него ни одного пушкинского десятитомника – а ведь Антон обещал подарить эти книги друзьям и родственникам.
Чехов пытался предугадать, что захотят получить от него новые столичные покровители. Двадцать девятого января Александр писал ему: «Все они складываются в моем сознании, как убеждение, что в тебе есть Божия искра и что они от тебя ждут – чего и сами не знают, но ждут. Одни требуют большого, толстого, другие – серьезного, третьи – отделанного, а Григорович боится, чтобы не произошло размена таланта на мелкую монету». Мария Киселева начала борьбу с «Новым временем» за душу Антона. В начале января она писала ему о рассказе «Тина», вызвавшем у нее отвращение: «Но мне лично досадно, что писатель Вашего сорта, т. е. не обделенный от Бога, показывает мне только одну „навозную кучу“ <���…> Мне нестерпимо хотелось ругнуть и Вас, и Ваших мерзких редакторов, которые так равнодушно портят Ваш талант» [122]. Антон написал длинное ответное письмо в защиту своего права рыться в навозной куче: «Литератор должен быть так же объективен, как химик; он должен отрешиться от житейской субъективности и знать, что навозные кучи в пейзаже играют очень почтенную роль, а злые страсти так же присущи жизни, как и добрые». И все-таки Мария Киселева своей цели добилась: мрачная чувственность чеховских рассказов, писанных им для «Нового времени», заметно пошла на убыль. В феврале Чехов напечатал совсем немного, а вслед за тем открыл в своем творчестве новое направление. Один из новых рассказов, «Верочка», пришелся по вкусу и Киселевой, и Суворину: его герой не находит в себе морального мужества ответить на признание в любви молодой девушки. Традиционная сцена расставания в саду еще не раз будет возникать в чеховских сочинениях вплоть до «Вишневого сада». Тонко переданное горькое чувство напрасной потери относит рассказ «Верочка» к одному из устойчивых чеховских архетипов.
Между тем Антону стало казаться, что источник его вдохновения скоро иссякнет. Он мечтал вернуться на юг, в края своего детства: в Таганроге он не был с июня 1880 года, с достопамятной свадьбы Онуфрия Лободы. Все звали его приехать – и простившие его дядя Митрофан с двоюродным братом Георгием, и братья Кравцовы. Вырвавшись из семейного круга и забравшись подальше от редакторов, Чехов хотел заняться поисками нового материала. Впрочем, не только творческие дела влекли Антона в дорогу: в Таганроге его дожидалась актриса, лелеявшая надежду заполучить его в мужья [123].
Для поездки Антону необходим был суворинский аванс, ради чего пришлось проехаться в Петербург. Призывы о помощи, исходившие от старшего брата, стали еще одним предлогом для поездки, хотя и не столь очевидным. Александр чувствовал себя изгоем – Суворин запретил ему подписывать свои сочинения настоящим именем из боязни, что читатели начнут путать двух А. Чеховых. Александр, хоть и предлагал Коле убежище от кредиторов, дурных соблазнов и полиции, сам сидел без гроша, да еще к тому же истрепал взятый напрокат у Вани сюртук. Кончилось тем, что он отбил в Москву телеграмму с известием, что неизлечимо болен. Восьмого марта Антон отправился в Петербург ночным поездом. Из гостиницы на Невском проспекте он докладывал в письме членам семьи: «Ехал я, понятно, в самом напряженном состоянии. Снились мне гробы и факельщики, мерещились тифы, доктора и проч… Вообще ночь была подлая… Единственным утешением служила для меня милая и дорогая Анна [124], которой я занимался во всю дорогу. <���…> Александр абсолютно здоров. Он пал духом, испугался и, вообразив себя больным, послал ту телеграмму».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу