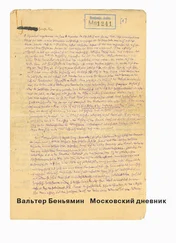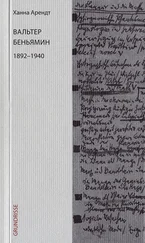Диалектические противоположности ситуаций: сравнение человека с бильярдом, который сперва разрушают, и лишь затем подвергают опустошению. («Как строилась…», с. 248) [241]. Или еще: «Что следует деятельно разрушить, то надо сперва крепко схватить» («Как строилась…», с. 244) [242].
Один из важных образов – ватага ребятни, что встречается и в «Охотнике Гракхе», и у Титорелли.
Попытка истолковать эпизод с языческими картинами: во времена ада новое – это вечно одно и то же.
«Суду ничего от тебя не нужно. Суд принимает тебя, когда ты приходишь, и отпускает, когда ты уходишь» («Процесс», 391) [243]. Этими последними словами, которые К. слышит в соборе, высказано то, что суд, по существу, нисколько и ничем не отличается от любой житейской ситуации. Ибо такое можно сказать именно что о любой ситуации, правда, если предположить, что воспринимаешь ее не как развиваемую К., а как внеположную ему и его ждущую. Но именно это и происходит с особой выразительностью в девятой главе, откуда и взяты процитированные выше заключительные слова. Примерно так же, наверно, складываются ситуации во сне: мы попадаем в них, как в некие пустые формы, из которых изливается самое наше существо в материи страха, вины или как там его еще можно назвать.
/Красота у Кафки никогда не выступает на стороне женщин-потаскушек, зато встречается в совершенно неожиданных местах, например, в лицах обвиняемых./
Кафка очищает целые огромные ареалы, которые были заняты человечеством, он проводит, так сказать, стратегическое отступление, отводя человечество назад, на линию первобытных болот.
Главное для него – начисто элиминировать современность. Ему ведомы лишь прошлое и будущее: прошлое – как первобытное болотное существование человечества в полнейшем промискуитете со всеми живыми существами, будущее – как наказание, вернее, как кара: именно с точки зрения вины будущее предстает как наказание, а прошлое с точки зрения избавления, спасения предстает как учение, как мудрость.
Пророк видит будущее в аспекте наказания.
Кафка ревизует историю.
Знание провоцирует и влечет за собой вину, а та – избавление, спасение.
Сквозь сонм имен его персонажей проходит как бы трещина: часть из них принадлежит повинному миру, часть – спасенному. Видимо, это напряжение на разрыв и есть причина чрезмерной определенности в его подаче материала.
б) Дневниковые заметки (май – июнь 1931 г.)
6 июня. Брехт видит в Кафке пророческого писателя. Он заявляет, что знает и понимает Кафку как свой собственный карман. Однако как именно он его понимает – выяснить совсем непросто. Для него, во всяком случае, ясно одно: у Кафки одна-единственная тема, и все богатство писателя Кафки есть богатство вариаций этой темы. Тема же эта, в понимании Брехта, в самых общих чертах может быть обозначена как изумление. Удивление человека, который чувствует грандиозный сдвиг, происходящий во всех отношениях, но сам, однако, в новый порядок вещей вписаться не умеет. Ибо этот новый порядок вещей, если я верно тут Брехта понимаю, определяется законами диалектики, которые бытие диктует массам и отдельному человеку. И этот отдельный человек сам по себе по неизбежности вынужден реагировать на почти непостижимые изменения бытия, которыми дают о себе знать проявления этих законов, таким вот изумлением с немалой примесью панического ужаса. Кафка, как мне кажется, настолько этим ужасом охвачен, что вообще не в состоянии изобразить какой-либо процесс в неискаженном, по нашим меркам, виде. Иначе говоря, все, что он описывает, говорит не столько о самом себе, сколько о чем-то другом. Этому непреходящему визуальному присутствию искаженных вещей вторят безутешная серьезность и отчаяние во взоре самого писателя. За такое восприятие действительности Брехт склонен считать Кафку единственным подлинно большевистским писателем. Сосредоточенность Кафки на его одной-единственной теме может вызвать у читателя впечатление закоснелости. В сущности же, однако, это впечатление – лишь свидетельство того, что Кафка порвал с принципами чисто повествовательной прозы. Быть может, проза его ничего и не доказывает; однако строй ее таков, что ее в любой момент можно поставить в контекст доказательства. Тут можно вспомнить о форме агады – так иудеи называют истории и притчи из Талмуда, которые служат пояснению и подтверждению учения, то есть галахи. Само учение, однако, нигде у Кафки не высказано. Можно лишь попробовать вычитать его смысл по странному, порожденному испугом и/ или внушающему испуг поведению людей.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу