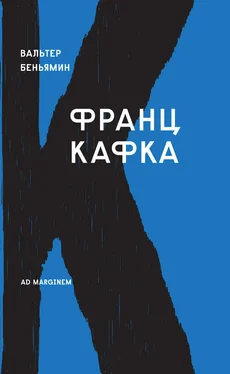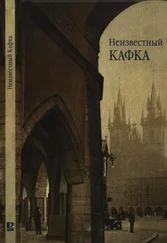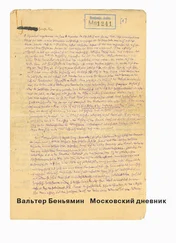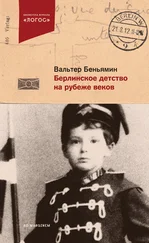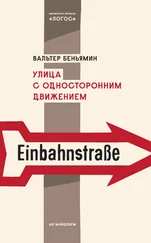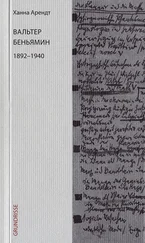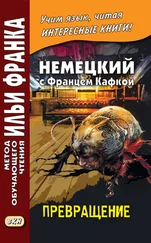Но эта стадия и в самой торе не вполне безвозвратно утеряна. Законы чистоты и трапезы относятся к первобытному миру, от которого ничего более не осталось, кроме этих защитных обычаев.
Иными словами: только галаха еще хранит в себе следы этого отдаленнейшего образа существования человечества.
Книги Кафки содержат недостающую агаду к этой галахе.
Однако в теснейшей связи с этим агадистским текстом в его книгах содержится и текст профетический, пророческий.
Гетерическому природному бытию иудейство противопоставляет кару.
Пророк видит будущее под знаком кары.
Грядущее для него не есть следствие недавно минувшей причины, но кара за некую, иногда давно прошедшую вину.
Вина, однако, которой в форме кары подчинено наше ближайшее будущее, есть, по Кафке, гетерическое существование человечества.
Это пророчество относительно нашего ближайшего будущего для Кафки куда важней, нежели иудейские теологизмы, которые только и хотели найти в его творчестве. Кара важнее самого карателя. Пророчество важнее, чем Бог. Современность, наше привычнейшее окружение, для Кафки, таким образом, полностью отпадает. Весь интерес его на самом деле направлен на новое, на грядущую кару, в свете которой, правда, вина становится уже первой ступенью избавления.
История о Буцефале, боевом коне Александра, который стал адвокатом, – не аллегория [201].
Для Кафки, похоже, вообще больше нет иного вместилища для великих фигур, а лучше сказать, для великих сил истории, кроме суда. Всех их, похоже, подчинило своей повинности правосудие. Так же как и люди, по народному поверью, после смерти превращаются – в духов или призраков, точно так же у Кафки люди, похоже, после обретения вины превращаются в фигурантов судопроизводства.
Истолковать значение чисел у Кафки: двое помощников, два палача, три господина в комнате, трое молодых людей. «Посещение рудника» – там шестой и седьмой дают представление о том, кем впоследствии станут помощники.
Ливрея или золотая пуговица на сюртуке как эмблема причастности к высшему: отец в «Превращении», слуга в «Посещении рудника», судебный слуга в «Процессе».
У Кафки картины жизни, образовавшиеся, возможно, не столько на основе ratio [202], сколько на основе древних мифологем, распадаются, и на их месте, сменяя друг друга, возникают все новые и новые. Но как раз эта мимолетность в образовании мифологем, уже заранее заложенная в них тенденция к самораспаду, и есть решающее свойство. То есть речь здесь идет о прямой противоположности «новому мифу».
«Ткачество не поднимая глаз», которое Бахофен знает по tres anus textrices [203], можно разглядеть и в главных действующих лицах «Процесса» и «Замка». Им противостоит разгильдяйство помощников.
Творчество Кафки: заболевание здравого человеческого рассудка. А также поговорки.
«У него двое противников: первый теснит его сзади, изначально. Второй преграждает ему путь вперед. Он борется с обоими» [204].
Очень важна заметка: «Раньше он был частью монументальной группы» («Как строилась…») [205]. Ибо, во-первых, она относится к комплексу пластических образов, который весьма немаловажен (ср. ангелов в Оклахоме) [206]. Во-вторых, в этой заметке сказано, что он из группы вышел. Вероятно, это можно понимать как противоположность тому вхождению в картину, которое встречается в китайских сказках.
Подмеченные массой свойства – слова, повадки, события – иные, чем слова, жесты, события, подмеченные отдельными лицами. Однако в успокоительной мощи огромной людской массы и кругозор отдельного человека меняется. Тип вроде Швейка, например, самым счастливым образом капитулирует перед массовым мышлением. У Кафки тут, возможно, намечаются конфликты. Ср.: «Он живет не ради своей личной жизни, он мыслит не ради своего личного мышления. Ему кажется, будто он живет и мыслит, подчиняясь понуждению некоей семьи». («Как строилась…») [207].
«Ему все дозволено, только себя забыть не дано» («Как строилась…») [208]. Правда, от тьмы прожитого мгновения ускользает тот, кто входит в образ. Кафка, однако, от этой тьмы не бежит, он ее проницает. Но для этого ему приходится глубоко вдыхать малярийный воздух наличного бытия.
Революционная энергия и слабость – это у Кафки две стороны одного и того же состояния. Его слабость, его дилетантизм, его неподготовленность – революционны. («Как строилась…» [209]. Кафка говорит, что всегда чувствовал Ничто «своей стихией». Что он под этим подразумевает? Творческое безразличие? Нирвану? («Как строилась…») [210].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу