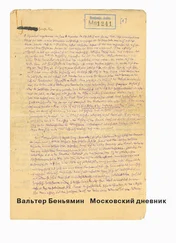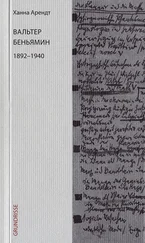Именно отсюда, от диалектики мнимости как от доисторического модернизма, как мне кажется, всецело исходит функция театра и жеста, которую Вы первым столь решительно, как и подобает, поставили в самый центр. Лейтмотивы «Процесса» именно такого рода. Если же искать суть жеста, то искать ее, как мне кажется, надо бы не столько в китайском театре, сколько в «модернизме», а именно в отмирании языка. В кафковских жестах высвобождается тварь живая, в сознании которой слова отняты, отторгнуты от вещей. Вот почему она, безусловно, и открыта, как Вы говорите, глубокому раздумью или почти молитвенному изучению окружающего; что до «опробования», то мне кажется, ей это непонятно, и единственное, что представляется мне в работе чуждым привнесением, – это подключение категорий эпического театра. Ибо этот всемирный театр, поскольку играют в нем только для Бога, не терпит никакой точки зрения извне, для которой он был бы всего лишь сценой; как невозможно, по Вашим собственным словам, повесить в раме на стене настоящее небо вместо картины, столь же мало возможна и сама сценическая рама для такой сцены (разве что это будет небо над ипподромом), а посему к концепции мира как «театра» избавления, в самом безмолвном подразумевании этого слова, конститутивно принадлежит и мысль, что сама художественная форма Кафки (а отрешившись от идеи непосредственной поучительности, как раз художественную форму Кафки проигнорировать никак нельзя) к театральной форме стоит в крайней антитезе и является романом. Так что тут Брод с его банальным воспоминанием о кино, как мне кажется, куда более точен, чем сам, вероятно, способен догадаться. Романы Кафки – это не режиссерские сценарии для экспериментального театра, ибо в них принципиально не подразумевается зритель, способный в эксперимент вмешаться. Они есть нечто совсем иное – это последние, исчезающие пояснительные тексты к немому кино (которое совсем не случайно почти в одно время со смертью Кафки исчезло); двусмысленность жеста есть двузначность между погружением в полную немоту (с деструкцией языка) и возвышением из нее в музыку; так что, по-видимому, наиболее важное звено в констелляции «жест – животное – музыка» – это изображение безмолвно музицирующей собачьей группы из «Исследований одной собаки», которые я без малейших колебаний ставлю в один ряд с «Санчо Пансой». Возможно, подключение их в сферу Вашей работы многое прояснило бы. Насчет фрагментарного характера позвольте только еще заметить Вам, что соотношение между воспоминанием и забвением, безусловно центральное по своему значению, мне у Вас еще не вполне ясно и, вероятно, могло бы быть сформулировано с большей однозначностью и твердостью; курьеза ради позвольте мне еще в связи с Вашим рассуждением о «бесхарактерности» вспомнить, что я в прошлом году написал маленькую вещицу под названием «Под одну гребенку», где я таким же образом трактовал распад индивидуального характера как явление вполне позитивное; а как еще один курьез позвольте Вам поведать, что прошлой весной в Лондоне я написал вещицу о бессчетном количестве пестроцветных разновидностей лондонских автобусных билетов, которая загадочным образом соприкасается с местом о цветах и красках из «Берлинского детства» [193], которое мне показала Фелицитас. А прежде всего позвольте мне еще раз подчеркнуть значение Вашей мысли о внимании как молитве. Я не читал ничего более важного у Вас – и ничего, что давало бы столь же точное представление о самых сокровенных мотивах Вашей мысли.
Мне почти хочется думать, что Вашим «Кафкой» замолено святотатство нашего друга Эрнста [194].
4. Беньямин – Адорно
Сан-Ремо, 07.01.1935
<���…> Относительно Вас я предполагаю то же самое и приступаю теперь к ответу на Ваше большое письмо от 17 декабря. Делаю это не без колебаний – письмо Ваше столь весомо и столь глубоко ухватывает самую сердцевину дела, что я почти не имею надежды соответствовать ему в эпистолярной форме. Тем важнее для меня в первую очередь заверить Вас в той большой радости, которую вызвало во мне Ваше столь живое участие в моих усилиях. Письмо Ваше я не просто прочел – я его изучил; оно требует самого пристального, фраза за фразой, обдумывания. Поскольку Вы точнейшим образом распознали мои интенции, Ваши указания на недочеты имеют для меня огромную значимость. В первую очередь это касается замечаний, которые Вы сделали относительно недостаточного преодоления архаического; а значит, самым первостепенным образом касается Ваших сомнений в вопросе о вечности, эпохах и забвении. Кстати, я без всяких возражений признаю резонность Ваших возражений насчет термина «опробование» и с благодарностью постараюсь воспользоваться Вашими чрезвычайно значительными замечаниями относительно немого кино. Очень помогло мне и указание, столь настоятельно сделанное Вами по поводу «Исследований одной собаки». Как раз эта вещь – пожалуй, единственная – еще в ходе моей работы над «Кафкой» неизменно оставалась для меня непонятной, чуждой, и я знал – кажется, даже говорил об этом Фелицитас, – что это произведение еще должно вымолвить мне свое заветное слово. Теперь, благодаря Вашим замечаниям, эти ожидания сбылись.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу