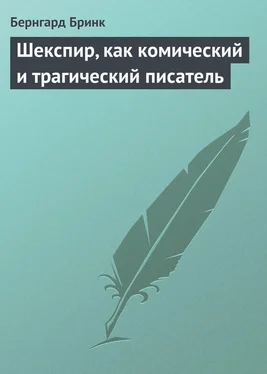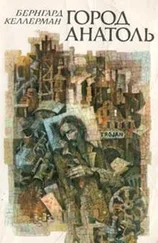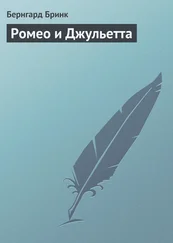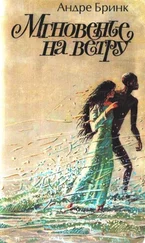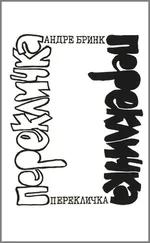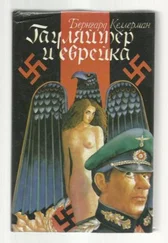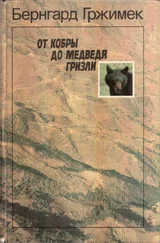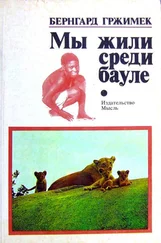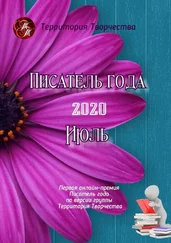Бессознательно следовал Шекспир в своих трагедиях тем самым основным законам, на основании которых великие трагики классической древности творили свои произведения. Но эти основные законы предоставляют широкий простор индивидуальности поэта и той форме, которую сообщают ей условия места и времени, и при них возможны разнообразные виды трагедии, как рода. Шекспировская трагедия заключает в себе прежде всего семейные черты его драмы, английской драмы того времени вообще: реалистический фундамент, обильное воспроизведение действительной жизни.
Всякое художественное произведение может представлять нам только, так сказать, вырезку из действительности, только малую частицу мира; но если все великие поэты умели придавать такому отрывку закругленность и идеальное значение, благодаря которым он обращался в законченное целое, в своего рода микрокосм, в отражение всего мира, то Шекспир сверх того неустанно старался расширить до последней возможности границу своего микрокосма.
Для достижения этой цели служат ему тысячи маленьких приемов, посредством которых действие своих сцен он проводит перед нашею фантазией таким образом, что оно переходит за пределы фактически видимого нами, переносит его относительно времени в прошедшее, относительно места за кулисы. Напомню здесь только пир у Капулета в «Ромео и Юлии», короткую сцену между слугами Капулета, которая предшествует появлению гостей и господствующею на сцене суетою непосредственно убеждает нас в действительности происходящего за кулисами пиршества. Напомню также короткий разговор между Капу летом и его родственником, который в своей будничной, столь правдивой, естественной окраске дает нам почувствовать, что настоящий момент примыкает к целому ряду годов в жизни этих действующих лиц. Напомню рассказ кормилицы об эпизоде из детства Юлии – и сколько еще примеров можно было бы привести! Особенно важно в этих случаях искусство, с которым Шекспир строит речи появляющихся в первый раз на сцену лиц – в монологах или диалогах – всегда таким образом, что они без малейшего принуждения переносят нас в занимающие этих людей интересы. В монологах намерение и цель автора понимались иногда неправильно; так напр., в знаменитом монологе Гамлета: «быть или не быть – вот вопрос» даже некоторые первоклассные актеры оставляли без внимания, что слова, которыми начинается монолог, не составляют начала беседы Гамлета с самим собой, но суть результат непосредственно предшествующих ей размышлений, умалчиваемое содержание которых делается известным из того, что произносится вслух. Все эти и подобные им приемы имеют следствием то, что в нас не может возникать сомнение касательно действительности видимого и слышимого нами. Если приводится рассказ о событии, при котором мы сами не присутствовали, или в истинность которого нам трудно поверить, хотя мы и были очевидцами его, то автор никогда не преминет убедить нас в действительности этого происшествия разными незначительными подробностями, о которых вспоминают рассказывающие, а часто и тем, что рассказывающие противоречат друг другу в подобных мелочах. Послушаем, как Гамлет расспрашивает о подробностях дела тех, которые сообщили ему о появлении тени:
Гамлет. Он был вооружен?
Все. От темени до пят.
Гамлет. Так вы лица не видели его?
Горацио. О, нет, мой принц, наличник поднят был.
Гамлет. Что ж, грозно он смотрел?
Горацио. В его лице
Скорее скорбь, чем гнев, изображалась.
Гамлет. Он был багров иль бледен?
Горацио. Страшно бледен.
Гамлет. И очи устремлял на вас?
Горацио. Не отводя.
Гамлет. Жаль, очень жаль, что я не с вами был.
Горацио. Вы ужаснулись бы.
Гамлет. Весьма, весьма возможно.
И долго пробыл он?
Горацио. Покамест сотню
Успеешь насчитать, считая тихо.
Мар. и Бер. О, дольше, дольше!
Горацио. Нет, при мне не дольше.
Гамлет. И цвет волос на бороде седой?
Горацио. Да, черный с проседью, как был при жизни.
Гамлет. Я эту ночь не сплю: случиться может,
Что он опять придет…
Еще более важности, чем вышесказанное, имела для основного характера Шекспировской трагедии привычка тогдашней сцены распространять границы самого драматического действия шире, чем это делали или чем обыкновенно делают другие подражатели древних. Подражатели эти большею частью представляют перед глазами зрителя только кризис действия; а то, что происходило прежде, предполагается, и о нем узнает зритель путем рассказа; англичане же все, принадлежавшее к ходу интриги, обыкновенно включали в само действие.
Читать дальше