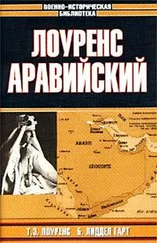Живя среди арабов, я оставался лишенным иллюзий скептиком, завидовавшим их легковерности. Незамеченный обман выглядел весьма успешным и становился своего рода платьем человека с претензиями. Среди нас невежды, поверхностные люди и обманутые становились счастливыми. Они прославлялись за счет нашего обмана. Мы расплачивались за них потерей самоуважения, и их жизнь приносила им глубокое удовлетворение. Чем больше мы осуждали и презирали самих себя, тем более цинично мы гордились ими. Было так просто переоценивать других, они были жертвами нашего обмана, беззаветно сражаясь с противником. Они неслись впереди наших замыслов, как по ветру мякина, но они были вовсе не мякиной, а самыми храбрыми, самыми простыми и самыми веселыми из людей. Credo quia sum? [13]Но не создает ли сам факт, что тебе верят многие, искаженное представление о праведности и справедливости?
Мой рассудок долго метался, извиваясь, по пыльному простору этого текста. Потом я понял, что это предпочтение Неизвестного Богу было идеей – козлом отпущения, – которая убаюкивала, принося лишь ложный покой. Чтобы выжить, исполняя приказ или, может быть, долг, – это было легче. Солдат переносил только непреднамеренные удары, тогда как нашей воле приходилось играть роль десятника, пока рабочие не падали в обморок, держаться в безопасном месте и подталкивать других к опасности. Могло бы выглядеть вполне героическим, если бы я положил жизнь за дело, в которое я не могу верить, но заставлять других умирать с искренним чувством исполнения долга за мой посерьезневший образ было настоящим похищением душ. Принимая нашу проповедь за истину, эти люди были готовы убивать ради нее – условие, которое делало их действия скорее правильными, чем славными. Главным было изобрести проповедь, а потом с открытыми глазами умереть за сотворенный ею же образ.
Казалось, что все дело движения в целом могло быть выражено в терминах смерти и жизни. Обычно мы осознавали наше тело через боль. Радость становилась острее от нашей долгой привычки к боли, но наш ресурс противостояния страданию превышал нашу способность радоваться. Здесь играла свою роль летаргия. Мы были одарены обеими этими эмоциями, потому что наша боль была взбаламучена внутренними вихрями, нарушавшими ее чистоту.
Рифом, на котором многие терпели кораблекрушение, была тщетность ожиданий того, что наша стойкость заслужит искупления, возможно для всего народа. Такое ложное обольщение порождало пылкое, хотя преходящее удовлетворение, состоявшее в том, что мы чувствовали, что впитали в себя боль или опыт другого, его индивидуальность. Это был триумф, духовный рост. Мы избегали наших пылких «я», завоевывали свою геометрическую законченность, хватались за преходящее «изменение мышления».
В действительности же мы породили некую замену наших собственных целей и смогли вырваться из этого знания, только притворяясь верящими в смысл, а также в мотив.
Человека толкает на самопожертвование мысль о том, что именно ему дан свыше редкий дар жертвоприношения и что никакая гордость и никакие мелкие радости мира не могут сравниться с этим добровольным выбором искупить чужой грех, чтобы довести свое «я» до совершенства. В этом, как и в любом стремлении к совершенству, есть некий скрытый эгоизм. Любая перспектива имеет лишь одну альтернативу, и попытка ухватиться за нее всегда обкрадывала людей, лишая их возможности испытать причитавшуюся им боль. Такая замена их радовала, подрывая при этом мужество их собратьев. Безропотное приятие такого попущения есть не что иное, как свидетельство их несовершенства. Их радость оттого, что им удалось уберечь себя от ждавшего их испытания, была грешной. По одну сторону пути человека лежит самосовершенствование, по другую – самопожертвование. Гауптман учил нас брать так же великодушно, как мы даем.
Страдание за другого возвеличивает, облагораживает. Не было ничего выше креста, с которого можно было созерцать мир. Гордость и опьянение им превосходили воображение. И все же каждый крест с распятой на нем жертвой отнимал у всех претендовавших на него все, кроме жалкой доли подражательства. Добродетель жертвоприношения сосредоточена в душе жертвы.
Истинное искупление должно быть свободным и по-детски непосредственным. Даже когда искупающий грехи осознавал подспудные мотивы и результаты своего поступка, это не приносило ему пользы. Поэтому альтруист присваивал себе некую возвышенную роль, потому что, оставайся он пассивным, его крест мог бы стать уделом невиновного. Однако разве можно считать правильным позволять людям умирать лишь потому, что они чего-то не понимают? Слепота и безрассудство наказывались более сурово, нежели преднамеренное зло. Закомплексованные люди, знавшие о том, как самопожертвование поднимало спасителя и свергало продажного, и скрывавшие это знание, могли таким образом позволить безрассудному собрату принять позу ложного благородства. По-видимому, для нас, руководителей, не было прямой тропинки в этом расходившемся концентрическими кругами лабиринте нашего поведения. И все же я не мог в своем молчаливом согласии на обман арабов опуститься до откровенного лицемерия, хотя, разумеется, должен был иметь какую-то склонность, какую-то позицию для оправдания обмана или же вообще не должен был обманывать людей и два года заниматься только доведением до успеха того обмана, который другие облекали в определенные формы и проводили в действие. Вначале я не имел никакого отношения к арабскому восстанию, но потом получилось так, что на мне лежала ответственность за само его существование. Не мне говорить о том, когда именно моя вина превратилась из второстепенной в главную, за какие конкретные руководящие действия меня следовало бы осудить. Достаточно уже того, что с марта в Акабе я горько раскаивался в том, что дал вовлечь себя в движение, и этой горечи хватило с лихвой, чтобы отравлять мои свободные часы, но не хватало достаточно, чтобы заставить меня решительно порвать с ним. Отсюда колебания моей воли и бесконечные вялые жалобы.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
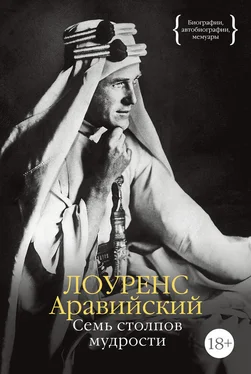

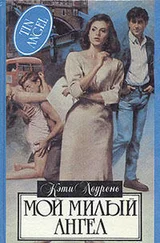
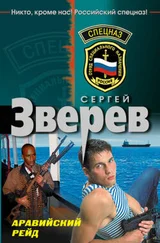
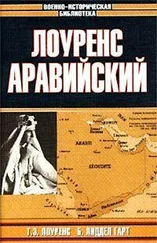

![Томас Лоуренс - Семь столпов мудрости [litres]](/books/431973/tomas-lourens-sem-stolpov-mudrosti-litres-thumb.webp)