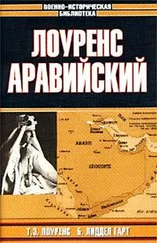Я уехал в Акабу через Итм, с его высокими горными стенами, на этот раз всего с шестью молчаливыми, не задававшими никаких вопросов телохранителями, следовавшими за мной как тени, дружными между собой и замкнувшимися в своем узком мире песка, кустарника и гор. Мною вдруг овладела тоска по родине, живо высветившая мою бесприютную жизнь изгнанника среди этих арабов, чьи высшие идеи я эксплуатировал, превращая их любовь к свободе всего лишь в еще одно орудие, способствовавшее победе Англии.
Был вечер, впереди солнце опускалось на ровную гряду Синая, и мои глаза как-то странно воспринимали яркий свет, исходивший от этого раскаленного шара. Я смертельно устал от своей кочевой жизни, но, к моему удивлению, меня до сих пор очень редко влекло к себе угрюмое небо Англии. Этот закат был каким-то неистово резким, возбуждавшим, варварским, оживлявшим цвета пустыни, словно поток воды, – впрочем, это новое чудо силы и тепла являло себя каждый вечер, и мне же теперь страстно хотелось слабости, прохлады и серого тумана, хотелось, чтобы мир не был таким хрустально ясным, таким четко разделенным на черное и белое, на правильное и ошибочное.
Мы, англичане, годами жившие за границей среди иностранцев, всегда гордились своей страной, о которой всегда помнили, гордились этой странной реальностью, которая не имела ничего общего с населявшими ее людьми, потому что те, кто любил Англию больше всего на свете, часто меньше всего любили англичан. Здесь, в Аравии, я торговал своей порядочностью ради блага Англии.
В Акабе собрались остатки отряда моих телохранителей, готовых к победе, потому что я пообещал солдатам из Хаурана, что они отметят этот большой праздник в своих освобожденных деревнях, и заверил их в том, что день этот близок. Мы последний раз собрались на ветреном морском берегу, у самого уреза воды, где солнечные лучи вспыхивали на гребнях морских волн, соперничая с пылавшими глазами моих на глазах менявшихся людей. Их было шестьдесят. Зааги редко собирал вместе так много своих солдат, и когда мы отправлялись через коричневые горы в Гувейру, он деловито распределил их, как это делали агейлы, определяя центр и фланги, расставляя справа и слева поэтов и певцов. Таким образом, наш рейд обещал быть музыкальным. Зааги огорчило то, что у меня не было знамени, как подобало князю.
Я ехал на своей Газели, старой верблюдице, по-прежнему находившейся в прекрасной форме. Ее верблюжонок недавно умер, и Абдулла, ехавший следом за мной, освежевал тушку и теперь вез высохшую шкуру за своим седлом, как подхвостник. Мы стройной колонной двинулись вперед под пение Зааги, но через час Газель высоко задрала голову и зашагала как-то неловко, высоко поднимая ноги, как это делают танцоры с мечами.
Я попытался ее урезонить, но Абдулла быстро поровнялся со мной, помахал своим головным платком над головой и спрыгнул с седла со шкурой верблюжонка в руке. Поднимая ногами мелкий гравий, он забежал вперед и остановился перед Газелью, замершей на месте с жалобным стоном. Абдулла расстелил на земле перед нею маленькую шкуру и притянул к ней голову верблюдицы. Она перестала стонать, трижды потерлась губами о сухую поверхность, потом снова подняла голову и, подвывая, зашагала вперед. Так повторилось несколько раз за день, но наконец она, похоже, забыла о своей потере.
В Гувейре у Сиддонса ждал аэроплан. Нури Шаалан и Фейсал просили меня немедленно прибыть в Джефер. Из-за большой разреженности воздуха аэроплан то и дело проваливался в воздушные ямы, так что мы едва не споткнулись о гребень Штара. Я сидел, раздумывая над тем, разобьемся мы или нет, едва ли не надеясь на это. Меня не оставляла уверенность в том, что Нури был полон решимости потребовать выполнения условий нашей позорной полусделки, осуществление которой представлялось еще более грязным делом, чем сама ее идея. Смерть в авиационной катастрофе была бы выходом из положения, и все же я вряд ли этого хотел, но вовсе не из страха, потому что я чувствовал себя таким уставшим, что меня уже ничего не могло испугать, и не из-за угрызений совести, так как мне представлялось всецело нашим собственным правом решать, жить нам или нет, а просто по привычке, потому что в последнее время я рисковал собой только тогда, когда это бывало полезно для нашего дела.
Пытаясь как-то классифицировать свои мысли, я находил, что в большой войне одинаково важны и интуиция, и разум. Инстинкт говорил: «Умри» – разум же подсказывал, что нужно лишь разрубить оковы, связывающие ум, и дать ему свободу. Смерть в результате несчастного случая хуже, чем преднамеренная. Если я без колебаний рисковал своей жизнью, с какой бы стати ее пачкать? И все же, как мне представляется, жизнь и честь относятся к разным категориям, и проблемы одной не могут быть решены за счет другой. Что же касается чести, то разве я не потерял ее год назад, когда убеждал арабов в том, что Англия сдержит свое обещание?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
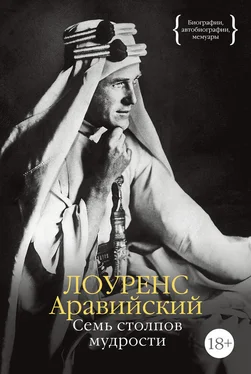

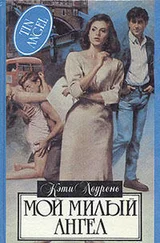
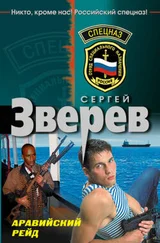
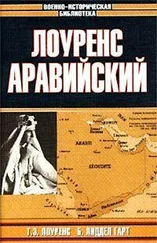

![Томас Лоуренс - Семь столпов мудрости [litres]](/books/431973/tomas-lourens-sem-stolpov-mudrosti-litres-thumb.webp)