Мы едем по восточному берегу озера Кламат, по трехполосному шоссе, в котором есть много от двадцатых годов. Все эти трехполоски строились тогда. Останавливаемся пообедать в ресторанчике, который тоже целиком принадлежит тому времени. Деревянный каркас уже давно плачет по краске, неоновые вывески пива в окнах, гравий и пятна от машин на площадке перед входом. Внутри унитаз весь в трещинах, раковина в грязных потеках, но на пути к нашей кабинке я еще раз обращаю внимание на лицо владельца за стойкой бара. Лицо двадцатых годов. Простое, неприятное и несгибаемое. Это его крепость. Мы -- его гости. И если нам не нравятся его гамбургеры, то нам лучше заткнуться. Когда их приносят, эти гамбургеры с громадными сырыми луковицами оказываются вкусными, бутылочное пиво -- прекрасно. Целый обед стоит гораздо меньше, чем в этих заведениях для пожилых дев с пластмассовыми цветами на окнах. Пока мы едим, я смотрю по карте, что мы не там повернули и могли бы добраться до океана гораздо быстрее другим путем. Уже жарко: липкая жара Западного Побережья, которая оченъ гнетет после жара Западной Пустыни. Ей-богу, вся эта сцена просто перенесена с Востока; мне бы хотелось как можно скорее добраться до океана, где прохладно. Я думаю об этом всю дорогу вокруг южной части озера Кламат. Липкая жара и ублюдочность двадцатых годов... Таким было и ощущение от Чикаго тем летом.
Когда Федр с семьей приехали в Чикаго, то поселились недалеко от Университета и, поскольку стипендии ему не платили, он начал на полной ставке преподавать риторику в Университете Иллинойса, который тогда находился в центре города на Военном-Морском Пирсе в мусорном и горячем месте, выступавшем прямо в озеро. Уроки отличались от тех, что он давал в Монтане. Все сливки лучших студентов сняли и разместили в кампусах Шампэйн и Урбана, а почти все оставшиеся, которых учил он, были твердыми и монотонными троечниками. Когда в классе их работы оценивались на предмет Качества, то сложно было отличить одну от другой. В других условиях Федр бы, возможно, придумал что-нибудь, чтобы такое положение как-то обойти, но теперь этим он просто зарабатывал на хлеб с маслом и не мог растрачивать свою творческую энергию. Его интересы располагались южнее, в другом Университете. Он встал в очередь на регистрацию в Чикагский Университет, сообщил свое имя регистратору -- профессору философии -- и заметил, как глаза того сосредоточились на нем. Профессор философии сказал, что ах, да, Председатель просил, чтобы его записали на курс "Идеи и Методы", который вел сам Председатель, и вручил ему расписание курса. Федр отметил, что расписание перекрывалось с его расписанием на Военно-Морском Пирсе, и вместо этого выбрал другой курс -- "Идеи и Методы 251, Риторика". Поскольку риторика была все-таки его областью, так он чувствовал себя немного увереннее. И лектором там был не Председатель. Лектором там был профессор философии, который его сейчас записывал. Глаза его, ранее остановившиеся на Федре, теперь расширились. Федр вернулся к преподаванию на Военно-Морском Пирсе и к подготовке своих первых уроков. Теперь ему было совершенно необходимо заниматься так, как он никогда не занимался прежде, чтобы изучить мысль Классической Греции в общем и одного грека-классика в частности -- Аристотеля. Весьма сомнительно, чтобы изо всех тысяч студентов, обучавшихся в Чикагском Университете древней классике, нашелся кто-нибудь более усердный. Основным пунктом борьбы университетской программы "Великие Книги" было современное поверье, что классика не имеет, на самом деле, никакого значения для, скажем, общества двадцатого века. Конечно же, большинство студентов классических курсов, должно быть, принимало правила игры в хорошие манеры со своими преподавателями и, в целях понимания, принимало заранее требуемое верование, что древним было что важного сказать. Федр же, не игравший вообще ни в какие игры, не просто принял эту идею. Он страстно и фанатично знал это. Он начал яростно их ненавидеть, обрушиваться на них со всеми возможными инвективами, какие только мог придумать: не потому, что они не имели значения, а как раз наоборот. Чем больше он учился, тем более убеждался, что никто еще не определил тот нанесенный миру ущерб, который стал результатом бессознательного принятия мысли древних.
По южному берегу озера Кламат мы проезжаем через какое-то пригородное строительство, а потом начинаем удаляться от озера в сторону побережья. Дорога поднимается к лесам с огромными деревьями, совсем не похожим на истосковавшиеся по дождю леса, через которые едем. Огромные дугласовы ели по обеим сторонам дороги. Проезжая между ними на мотоцикле, можно смотреть прямо вверх вдоль стволов на много сотен футов. Крис хочет остановиться и побродить между ними, поэтому мы останавливаемся. Пока он гуляет, я очень осторожно откидываюсь на большой кусок коры дугласовой ели, смотрю вверх и пытаюсь вспомнить...
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу

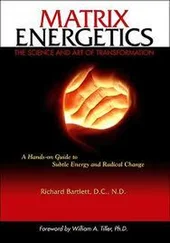
![Роберт Баден-Пауэлл - Искусство скаута-разведчика[Scouting for boys ; Искусство Разведки для мальчиков]](/books/70572/robert-baden-pauell-iskusstvo-skauta-thumb.webp)

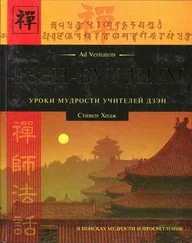



![Роберт Пирсиг - Дзэн и искусство ухода за мотоциклом [litres]](/books/427160/robert-pirsig-dzen-i-iskusstvo-uhoda-za-motociklom-thumb.webp)


