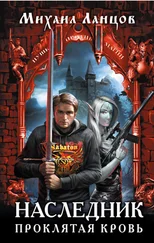Эталоном длины стала высота ртутного столба в простом ртутном барометре от уровня моря, которая не просто замерялась, а высчитывалась как показатель при нормальном давлении путём многочисленных замеров и выведения среднего арифметического показателя. Полученный результат «эталонировали»: с отрезка снимались копии и рассылались по местам для использования. Единицу длины князь решил назвать привычным для него словом «метр», который, правда, составлял всего 76 привычных сантиметров. Из эталона длины вывели две вторичные характеристики – площадь и объём, соответственно квадратный метр и кубический. Они также были меньше привычных размеров. Для удобства использования их назвали аром и стером. Следующим шагом стало выведение эталона массы. Взяли массу куба пресной воды со стороной в 1/ 12местного метра, который оказался равен 0,254 килограмма. С названием в этот раз оказалось всё не так просто, ибо полученный результат перевешивал обычный грамм и приближался к местному эталону массы – марке, которая колебалась в зависимости от региона в пределах 200–350 граммов. И, подумав, Эрик остановился на приятном и достаточно благозвучном латинском слове «солид», что в переводе значило «тяжёлый». Такое решение было неудивительным для государства со столь распространённой латынью.
После определения основных критериев пространства взялись за время и углы.
Сутки разделили на двенадцать часов, час на 144 минуты, минуту на 144 секунды. То есть привычные для нас сутки делились не на 86 400 секунд, а на 248 832, что сократило секунду примерно втрое. На растерзание, безусловно, пошёл и календарь. Всем участникам конференции было известно о прецеденте високосного года и тех проблемах, с которыми сталкиваются календари. Поэтому экспериментировали весьма свободно, без особых оглядок на религиозные традиции. Да, собственно, и традиции как таковой тоже не было, так как общая стандартизация летосчисления ещё не сложилась. В общем, получилось так: год был разделён на 61 неделю, из них одна была праздничная, а остальные равномерно распределились на двенадцать месяцев по пять в каждом.
Особенность подобного подхода заключалась в том, что недели были по шесть дней, а не по семь. Этот шаг позволил сделать в каждом месяце одинаковое количество дней, с соответствующими упрощениями учётного, отчётного и организационного характера. Например, каждый месяц первое число попадало на понедельник, а тридцатое на субботу. Праздничная же неделя имела переменное количество дней – от пяти до шести (в високосный) и не включалась ни в какой месяц, выступая в качестве новогодней, предваряющей новый год. Таким образом, по календарю прошлись весьма основательно, перевернув все современные представления. А напоследок проехались ещё и по точке отсчёта. В качестве оной выбрали последний день последнего зимнего солнцестояния, предварившего новый дом астрологической прецессии – эпоху Рыб. Фактически вводилось летосчисление, почти полностью совпадающее с отсчётом лет от Рождества Христова за тем исключением, что они получались смещены на несколько дней относительно друг друга.
С углами всё получилось просто – круг делился на 1728 равных секторов (12 в третьей степени). Угол, образованный таким сектором, назвали градусом, который выходил примерно в пять раз меньше привычного: так, на транспортире, оформленном в этом стиле, вместо 180 градусов стоит 864, а вместо 90 – 432. Для более точных расчётов градус разделили на 144 минуты, а минуту на 144 секунды. Морская навигация не нуждалась в такой детализации, поэтому для неё ввели румб, который равнялся 48 градусам, в результате окружность была разделена на 36 румбов.
К радости князя, конференция выразила желание пойти дальше и навести порядок ещё в двух сферах – языке и деньгах. Как говорится, собравшиеся решили довести начатую процедуру упорядочивания до конца.
Относительно монет это желание было вполне очевидно и естественно, так как они оставались пока ещё в десятичном измерении. Пользуясь случаем, Эрик решил финансовую систему не только упорядочить, но и максимально развернуть, создав предельно гибкие для того времени инструменты. Проблем было две.
Первая – отсутствие мелкой, черновой монеты для повседневных розничных покупок, что не позволяло развивать товарно-денежные отношения внутри государства. Каравай хлеба стоил сильно дешевле самой мелкой серебряной монеты, поэтому его было сложно продать. Приходилось договариваться о более крупных покупках либо разово, либо на определённый временной период. Например, питание в течение нескольких дней. Подобная ситуация приводила к вынужденному росту бартера, взаимозачёта и прочих неудобных торговых операций.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
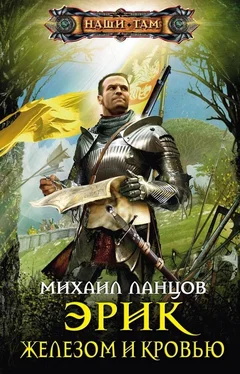
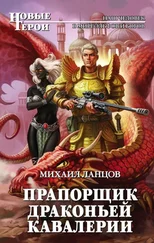

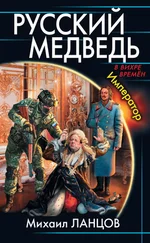
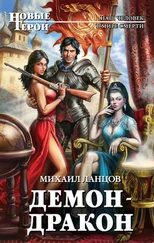



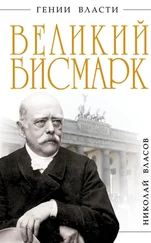


![Михаил Ланцов - Наследник. Проклятая кровь [litres]](/books/414298/mihail-lancov-naslednik-proklyataya-krov-91-litr-thumb.webp)