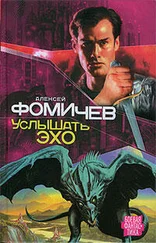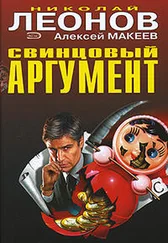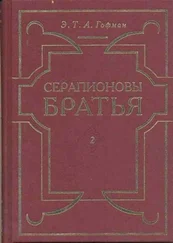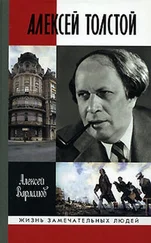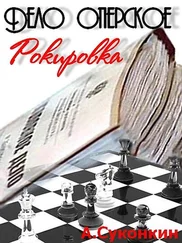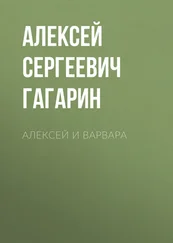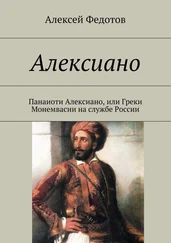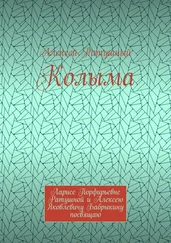– Вы замечаете, как меняется мода или интерес публики? В 1990-е у нас стал популярен минимализм, а новый авангард был не очень заметен, но уже к середине нулевых многое изменилось.
– Сейчас появилась новая тенденция, ее называют «неоклассикой», хотя это не имеет совершенно никакого отношения к неоклассике Стравинского и Бартока. Правильней было бы называть ее постминимализмом. Я с некоторым удивлением ее обнаружил. Это, в большинстве своем, довольно молодые люди, которые считают себя наследниками не Стива Райха или Терри Райли (не уверен даже, что они знают, кто это), а Макса Рихтера и Людовико Эйнауди – самых простых «киноминималистов». Но у этого направления есть своя публика, в Москве ее активно осваивают успешные концертные проекты «Sound Up» и «Неоклассики». Ходят на них тоже молодые ребята, для которых джаз – слишком сложно, а рок – слишком страшно.
– Как вы к этой «неоклассике» относитесь? Вам, человеку с консерваторским образованием, она ведь должна быть не слишком близка, пусть даже она и связана формально с минимализмом?
– Мне сложно ответить, потому что у меня есть правило: о коллегах либо хорошо, либо никак. Как про мертвых. Тем более что сейчас меня судьба сводит с ними в одних концертах, меня ведь тоже записали в «неоклассики», хотя я себя к этому движению совершенно не причисляю.
Но да, тенденция рождает спрос. А спрос на упрощенную музыку существует. Может быть, это связано с усталостью от очередной волны авангарда. Думаю, эти волны возникают органично и своевременно, можно как-то их объяснить, хотя я не возьмусь. Сам я стараюсь никаким волнам не следовать. Меня всегда называли немодным во всех смыслах композитором. Может быть, я не в то время попал. Наверное, мое было чуть раньше, когда отцы-основатели придумывали минимализм. Но я стал их наследником. Считайте, что я соткан из кусочков Райха, Пярта, Сильвестрова, частично Мартынова, Пелециса, а также, безусловно, Стравинского, Равеля, Дебюсси и барочной музыки, которую я очень люблю. И даже пытаюсь сочинять какие-то аллюзии на барочные стили. Скажем, сейчас в фонде Беляева готовятся к изданию ноты моего «Дважды двойного концерта», написанного для двух оркестриков [134] – обычного и барочного. Их партии отличаются на полтона, поскольку играют они в разных строях. Оркестры как бы соревнуются друг с другом, но в некоем благозвучии совпадают.
В Стива Райха я влюбился давным-давно, даже ездил в Нью-Йорк на его шестидесятилетие, но подойти представиться не решился. Он же такой строгий, вечно в своей зловещей кепке. А единственный раз в жизни, когда я взял автограф, был после концерта Kronos Quartet, они играли в Москве «Different trains» Райха. Разумеется, о существовании Эйнауди и Рихтера я узнал гораздо позже.
Я и сам меняюсь. В молодости я был менее терпимым человеком по поводу чужих вкусов. Но с возрастом приходит осознание того, что нет никаких войн, все это ерунда – любая музыка важна, нужна и хороша. Я не отрицаю позицию авангардистов, в обязательном порядке слушаю их новые вещи. Даже если мне этого совсем не хочется. Просто для того, чтобы быть в курсе. Более того, в последнее время я все чаще отклоняюсь в авангардные области. Хотя в авангардисты и не стремлюсь. Но сложные звукосочетания мне стали как-то ближе, а ведь раньше я их сознательно избегал. У меня всегда было убеждение, что публику не нужно бить по голове кувалдой. Не нужно ее отпускать с концерта в состоянии подавленности и удрученности. Негатива у нас и без того предостаточно, пусть лучше уходят домой в приподнятом настроении. Я даже спорил об этом с Теодором Курентзисом, который как-то в гостях начал мне ставить разные авангардные произведения, а я ему сообщил – совершенно искренне, – что хотел бы писать музыку о солнышке и цветочках. Теодор встал в патетическую позу и сказал: «Нельзя писать про солнышко и цветочки, можно писать только про боль!» Я, к сожалению, не смог с этим согласиться. Вероятно, поэтому в круг его интересов я не попал, а жаль. Может быть, когда-нибудь он меня сыграет.
И сами эти молодые постминималисты, и их публика возникли недавно и для меня совершенно незаметно. Это все люди, родившиеся лет на пятнадцать позже меня. Меня долгие годы причисляли к молодым композиторам, но вообще-то мне уже сорок семь, выросло новое поколение, так что, видимо, моя «молодость» постепенно заканчивается. И на смену брызжущей радости, которая всегда была характерна для моей музыки, приходят мрачные размышления. Про солнышко и цветочки писать больше не получается. Так, например, по заказу Базельского фестиваля я написал секстет «Любимый ненавидимый город». По какому-то странному правилу надо было написать именно про город, в котором живешь. Я всю жизнь живу в Москве, женился тут, дружу, работаю, но возвращаться домой из командировок мне все сложнее. Тяжело выходить из дома, дышать нечистым воздухом, попадать в пробки, наблюдать собянинские праздники жизни на площадях. Разрушение старины я тоже воспринимаю болезненно. [135]
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу