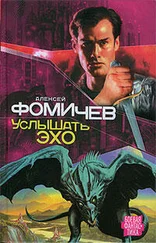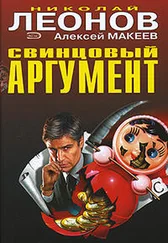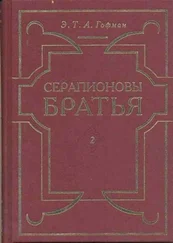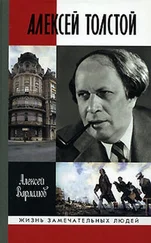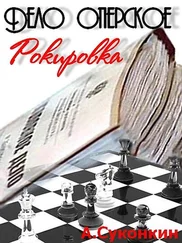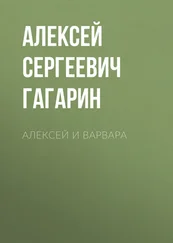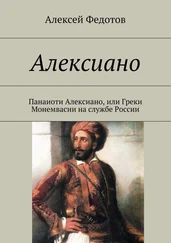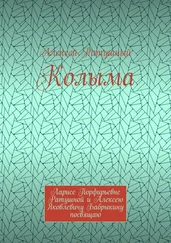Сонечка Губайдулина негодовала: как они могли такое – молодому музыканту?! Но я помалкивал. Как-то внутри у меня все улыбалось. Это же было чем-то вроде благословения. И всю жизнь я это так и ощущаю – как пророчество.
– То есть вы скорее возгордились?
– Нет, я возликовал. Потому что они были правы! Они кожей чувствовали, что я чужой. И так всю жизнь – я чужой и среди своих и среди чужих. Принципиально чужой. Не в сочинениях было дело, потому что с теми же вещами я с ходу был принят на третий курс Ленинградской консерватории.
– Вы переживали, что ваша карьера виолончелиста закончилась так быстро?
– Наоборот, я ощущал это как невероятное счастье! Впервые почувствовал себя собой. И если постфактум посмотреть на вехи моего земного пути, окажется – он весь состоит из невозможностей и уникальностей. Простите, но это если называть вещи своими именами.
– А что это были за вещи, на которые так среагировал профессор? В какой стилистике?
– Да это неважно… Разная была стилистика, и вещи разные. Они для меня как дети, я не отказываюсь ни от одной. Просто чаще всего они были недостаточно хорошо записаны.
Но записи – это отдельная тема. Скажем, запись «Кентервильского привидения» вышла на компакт-диске с шапкой «бриллиантовая классика» или что-то вроде того. Но записывали они его без меня. А сейчас я заново переписываю. Буквально в прошлом году сделал редакцию [109] Опера «Кентервильское привидение» (1965–1966; в новой редакции – «Кентервиль») по повести Оскара Уайльда была написана Кнайфелем в двадцать два года и впервые поставлена на сцене Оперной студии Ленинградской консерватории.
– ничего не поменял, но все переписал, до ноты. И только теперь эта вещь станет тем, чем должна быть. Бывает, конечно, что эскиз картины лучше самой картины, но это не тот случай.
– С какими чувствами вы переслушиваете свои ранние вещи? Их же до сих пор исполняют. Я недавно слушал живьем одну из них, написанную для ансамбля ударных инструментов Марка Пекарского – это такая жизнерадостная, обаятельная вещь с графической партитурой.
– Ну, это просто шутка. Партитура была в виде круга, который «исполнялся» во всех положениях. Но, кстати, это же именно за нее меня линчевали на съезде Союза композиторов [в 1979 году]. Она прозвучала на фестивалях в ФРГ, а потом Хренников выступил с разгромной речью – мол, как эти люди могут представлять советскую музыку? [110]
– В этом выступлении Хренников клеймил «советский авангард». А вы сами себя считали авангардистом?
– Алексей, любой человек рожден авангардистом. Кто такой авангардист? Это человек, который говорит своим языком. К этому призваны все. Дело не в даре. Мы ведь начинаем «оценивать»: этот – великий, тот – знаменитый, этот – гений, тот – выдающийся… Это же такая бессмысленная, недостойная дурь! Авангардист – это вроде бы тот, кто в авангарде, то есть впереди. Где это «впереди»? Ну что, Шуберт не авангардист?
– Но все-таки вы понимали, что к этому самому «советскому авангарду» вас отнесли не случайно.
– Мне повезло, я в эти игры никогда не играл. Я вел беседы с Бетховеном. И я не отказываюсь от прошлого, я все помню. Я был на всех этих съездах и пленумах.
– При этом у вас есть оратория на текст письма Ленина членам ЦК, сочинение на стихи Маяковского… В каких они обстоятельствах были написаны? Это был заказ? Искренний реверанс советской власти? [111] [112]
– Соломон Волков, которого вы наверняка знаете, хотел сделать постановку к пятидесятилетию революции на документальном материале. Но письмо Ленина, конечно, выделялось. «Товарищи! Я пишу эти строки вечером 24-го, положение донельзя критическое». Все это письмо, за исключением одного фрагмента, пропевалось полностью. Про то, что надо выступать и промедление смерти подобно. Но поскольку Ленин – юрист, то он строит довод на доводе, довод на доводе – не продохнуть! То есть он людей в упор не видит, человеческого фактора не существует! Есть только идея. И ничего ведь не меняется, сейчас вокруг происходит то же самое.
– Вы действительно рассчитывали, что в 1967 году шестнадцать хоров будут петь ваши «Аргументы юриста»?
– Конечно, ничего из этого не вышло, кроме порки в Смольном. Но да, написано для шестнадцати хоров, точнее для оркестра с неограниченным числом инструментов и хора с неограниченным числом голосов. Примерно в то же время у меня родилась «Медея» в древнегреческой эстетике. И «Argumenta de jure» в каком-то смысле подхватывает эту ситуацию. Знаете, стоят безглазые скульптуры. Все прекрасно, только глаз нет. Не за что полюбить, а красота безусловная. Совершенно та же самая эстетика. Письмо логически совершенно безукоризненно, но что с этим делать, непонятно. И люди это хлебают вот уже сто лет. Довольно страшно. [113]
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу