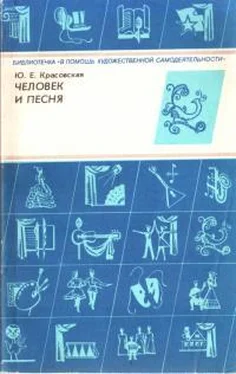«А много ли вы панок вырезали на своем веку, Ефим Григорьевич?» — спрашиваю я, полагая, что только очень поднаторевшие в этой работе руки могут «вспомнить» что-либо после долгого перерыва. И получаю неожиданный ответ: «А две всёго паночки и сделал. Перьву — примерно сорок годов назад, а другу — вот она». Это еще раз убеждает меня, что только генетически заложенная сверхпамять многих поколений может помочь человеку включиться в пение родной песни, которой он не знал прежде и слышит впервые, или сплясать «русского» (до этого упражняясь только в диско-танцах), обнаружить в себе знание того, что прежде точно было ему неизвестно,— память умных рук, память сердца, память слуха, глаз — память народную...
КОГДА-ТО БОЛЬШОЕ СЕЛО КУЗОМЕНЬ. «КОФЕ ФЕЛЯ». ПЕТР ПАВЛОВИЧ КОРЕХОВ И УРОКИ ЭКОЛОГИИ
Идем вместе с Ириной Поляковой пешком из Варзуги в Кузомень. Никто точно не знает — то ли двадцать верст, то ли двадцать километров. Сначала дорога идет лесом. Терпко пахнет грибами, морошкой, ягелем. Не по-северному жарко до изнеможения (такое уж выдалось необычное лето на Севере, мы даже сумели искупаться в Белом море). От жары и комары присмирели. Видимо, прячутся по болотам. Не докучают. По дороге заметно, что почва в глубине песчаная, прикрытая сверху не столь уж толстым слоем дерна: все труднее и труднее идти, ноги утопают в песке, с рюкзаками и вовсе невмоготу. Впереди Кузомень. Финно-угроведы говорят, что слово это означает еловый мыс. Я иду туда впервые, хотя, думается мне, знаю о Кузомени немало. От краеведа Петра Ивановича Пирогова, из книг И. Ф. Ушакова, Е. Двинина... Вплоть до 1920-х годов Кузомень считалась по масштабам Севера чуть ли не городом. Даже имела свою судоверфь.
Кузомень... Лес кончился, и мы остановились, онемев от удивления. Перед нами расстилалась как будто знойная песчаная пустыня, а за ней — ярко-синее море. Малейший ветерок вздымал видимые глазом смерчи. Их движение было похоже на шествие джиннов в страшных восточных сказках. Мгновенно песок засыпал глаза, забился в уши, захрустел на зубах, стал мешать дыханию. Мы даже не сразу поняли, где же селение. Ближе всего к нам было кладбище с гигантскими деревянными крестами (иные, вероятно, достигали десяти метров в высоту). Кресты как бы перечеркивали все видимое пространство. Присмотревшись, разглядели мы в отдалении, за песчаными, медленно передвигающимися дюнами ряд бревенчатых изб. Отсутствие деревьев, травы, вообще каких бы то ни было красок, кроме белесо-золотистого песка, густо-синего моря и голубого неба, создавало странное искажение перспективы: дома казались близкими и крохотными рядом с монументальными крестами. Увязая почти по колено в песке, мы побрели в сторону домов, пересекая кладбище. Я чуть не упала, споткнувшись обо что-то торчащее из песка. Нагнувшись, увидела, что это угол совсем истлевшего гроба. Ветры постепенно сдули толщу песка, и гроб оказался почти снаружи.
С трудом добираемся в центр Кузомени. В бывшем двухэтажном торговом доме — гостиница для приезжих. Оттуда несется ругань пьяных. Здесь же столовая. С отвращением хлебаем какую-то непонятную жижу. За стойкой немолодая женщина маленького росточка, худенькая, с ярко накрашенными губами, нарочито показным весельем, прибаутками, претендующими на городскую «культуру». Она немного навеселе. В основном покупают у нее спиртное. «Эй, Феля!» — «Чего, голубеюшко?» — «Полбанку»... Спешим выйти. И тут замечаем, что под входом большими буквами мелом намалевано: «Кофе Феля» (надо думать, писавший имел в виду кафе, а не кофе). Поди ж ты! Кафе имени хозяйки. Велика честь...
Идем спрашивать-искать песенниц. Но в первом же доме, на хозяйку которого указали как на знатока-песенницу, нас ожидает неудача: «Кого?! Песён им... Я те покажу песён! Варзужана, голодранцы преже были, поголёнщики, а их топерича заподымали. Хор ихний всюды возят, кинофильмы сымают. Тьфу! У нас голосистей, пофартистей преже пели», — набрасывается на нас хозяйка. «Так вот вы и соберите своих. Мы запишем, может быть, сумеем и кузоменский коллектив достойно продвинуть», — возражаю очень вежливо я. Но в ответ слышу: «Подьте, подьте! Сами розруху сделали нам, а теперь — пойте»... И нас буквально выставляют за дверь (впервые и «впоследние» за всю мою собирательскую практику). Примерно то же повторяется во втором, третьем, четвертом доме. Наконец, встречаю человека, с которым можно хоть говорить спокойно. Он не песенник. Его зовут Петром Павловичем Кореховым. «В нашей-то Кузомени по роду ведутьсе Обросимовы, да Богдановы, да Кореховы, Пироговы да Тарабуевы, да Конёвы, дак... Преже у нас песен было! Закатят — только ой! В сундуках у жоноцок сарафанов было! По двадцать-тридцать у новой. Кашемирники, да шолковики, да просты, да... Не то што нынешни платья: задницю-ту подтягают кверху. А нынце наши бабки стараи, как сотоны лукаваи... При моей бытности, скажём, стали у нас кружанья, да игрища, да горки, да свадьбы отмирать. Уже наши дети их не водили. Я сам топерича старой. Уши стали плохи, попуталисе.
Читать дальше