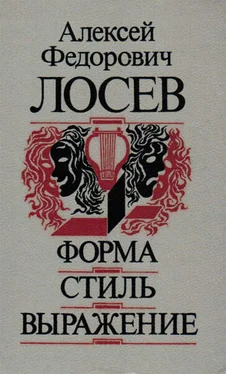Алексей Лосев - Форма. Стиль. Выражение
Здесь есть возможность читать онлайн «Алексей Лосев - Форма. Стиль. Выражение» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Город: Москва, Год выпуска: 1993, Издательство: Мысль, Жанр: music, Философия, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Форма. Стиль. Выражение
- Автор:
- Издательство:Мысль
- Жанр:
- Год:1993
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Форма. Стиль. Выражение: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Форма. Стиль. Выражение»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Форма. Стиль. Выражение — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Форма. Стиль. Выражение», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
86
Знаменитое аристотелевское определение трагедии я, вслед за Фр. Фишером (Aesth., § 143), J. Walter'oM (Gesch. d. Aesth. im Altert. Lpz., 1893, 612 слл.) и Фолькельтом, не считаю достаточным. Оно дано слишком внешне. Входить в толкование трагического очищения по Аристотелю я также здесь не буду, ограничившись указанием на важнейшую литературу по катарсису в новейшем переводе «Поэтики» (Аристотель. Поэтика, пер. Н. И. Новосадского, Лнгр., 1927, 111–113). Вековой спор об аристотелевском катарсисе, основанный на разных пониманиях одной не вполне ясной фразы о нем, я считаю занятием довольно бесплодным и праздным. Если уж говорить о подлинной стихии трагического у Аристотеля, то ее нужно искать не в «Поэтике», но в теоретических сочинениях Аристотеля. Такую попытку я сделал в особом небольшом исследовании об эстетическом мировоззрении и теории эстетического воспитания у Аристотеля, указавши свое отношение к главнейшим типам истолкования катарсиса. Учение о трагическом у Шиллера также не покрывается нашей формулой. «Основанием нашего удовольствия от трагических предметов» в статье, носящей такое же заглавие, считается нравственное удовлетворение по поводу величия жертвы, приносимой вопреки чувственной склонности, и страдания, полученного в результате такой жертвы. Такое морализирование едва ли свойственно чистому трагизму, хотя и часто связывается с ним. Гораздо правильнее рассуждает Шеллинг, видящий в трагедии объективированный синтез свободы и необходимости (Phil. d. К., 694–699). Моральный вид, но не моралистическую сущность имеет учение Гегеля о трагедии, давшего хорошую формулу трагического как особности в «вечно субстанциальном», возвращающейся в это последнее (Asth. Ill 526–533). Со своей точки зрения прав Шопенгауэр, по которому, «подобно тому, как зрелище возвышенного в природе отвлекает нас от интересов воли и погружает нас в состояние чистой интуиции, так трагическая катастрофа отвлекает нас даже от самой воли к жизни». «Ибо в трагедии проносится перед нами ужасная сторона жизни — горе человечества, господство случая и заблуждения, гибель праведника, торжество злодея, — иными словами, трагедия являет нашим взорам те черты мира, которые прямо враждебны нашей воле. И это зрелище побуждает нас отречься от воли к жизни, не хотеть этой жизни, разлюбить ее» («Мир как воля и представление», пер. Айхенвальда. II 446). Воззрение Шопенгауэра правильно в меру правильности его основной метафизики (а ее основной недостаток — отсутствие диалектики). Весьма удобны для понятия трагического исходные пункты диалектической эстетики Зольгера, по которому, «если вся действительность является как изображение и откровение идеи, противореча самой себе и погружая себя в идею, то это есть трагический принцип» (Aesth. 308). «В трагическом идея открывается через свое уничтожение как существующая, ибо, снимая себя как существование, она существует там как идея, и оба суть одно и то же. Гибель идеи как существование есть ее откровение как идея» (311). Здесь — ясная противоположность комическому, где действительность не отрицается и где она содержит противоречия в отношении идеи, содержа, однако, эту последнюю в себе (312–313). Важны мысли о трагическом у Вейссе (Aesth. II, §68), хотя и необходимо принять во внимание критику их у Фр. Фишера (Aesth. I, § 127). Сам Фишер дает великолепную дедукцию трагического (§ 117–129), хотя, если пользоваться ее терминологией, многое требовало бы и исправления (см. выше замечание о Фишере в прим. 62).
По Фишеру, трагическое относится к возвышенному. «В высшей форме возвышенного снятие низшего происходит в двояком смысле, а именно, последнее отрицается как самостоятельная форма, но то, что залегает в ней истинного, принимается в высшую форму как момент, сниженный до средства ее деятельности. Поэтому снятая форма не прекращает своего дальнейшего существования наряду с высшей, скорее же служит ей вне данной ей через ее собственную сферу материи в качестве побуждения и предмета» (§ 117). Образуется комплекс бесконечных взаимоотношений между низшим и высшим, который, оказываясь «массой без закона и единства», создает в «добром субъекте» то, что «больше субъекта»; оно — «общий субъект», «не простое собрание субъектов, но та же истинная бесконечность, которая налична в данном субъекте, но с противоречием к его единичности» (§ 118). Как всецело подчиняющая себе низшие формы, эта высшая субъективность оказывается «объективной необходимостью» и в дальнейшем — «нравственной необходимостью» (§ 119). «Эта необходимость, как закон нравственного мира, распространяется на различные сферы нравственной жизни, абсолютно нравственная сила — на отдельные нравственные силы (ср. § 20), ибо она не может дать никакого другого содержания, кроме того, чтобы проникать естественные влечения со свободой духа, и естественное различие их обосновывает поэтому в самом своем изменении различие нравственных сил, или идей. Это различие оформляется в противоположность; противоположность же в абсолютной идее, принимаемой теперь как абсолютный субъект, снимается в гармоничном единстве» (§ 120). Это единство предполагает свою основу скрытой, темной, так как она — за пределами всего реального, хотя и выявляется и движущаяся в нем в виде закона (§ 121). «Чтобы понять это движение, необходимо сначала установить, что возвышенное субъекта (здесь) не просто уничтожается, но есть снятый момент. Он снова появляется как таковой, и — так именно, что отношение здесь перевертывается. Раньше возвышенный субъект, казалось, распространялся за пределы себя самого и оставался субъектом. Теперь же возвышенное стало на то место, куда распространился субъект, и это обнаружилось как ограничение, которое наиболь–ше–возвышенное дает себе самому и снова снимает. Субъект выступает на этом заднем плане, и этот последний существует там до него; субъект из него появляется. Его возвышенное есть поэтому именно его возвышенное; задний план содержится (именно) в нем самом. Субъект свободен, но в той же мере задний план выходит бесконечно за него. Он получил от него свое возвышенное, равно также и свой пафос, каковое слово имеет значение теперь в объективном смысле (ср. § 110). Это противоречие покоится теперь без распадения: субъект теперь всем своим достоянием своего возвышенного повинен за задний план. Но это еще не действительная вина; это — перво–вина (Urschuld)» (§ 122). «Субъект деятелен; он действует. Действуя, он объективирует свою свободу и врывается через это в комплекс общей объективности или необходимости. Но поступок неизбежно связан с единичностью, которая ограничивает субъективную волю. Он поэтому разрывает связное и наносит ущерб абсолютному единству всеобщего сцепления. Отрывается или первая форма необходимости от второй (§ 119), так что действие происходит по закону первой и ущерб получает вторая, или отрывается нравственная сфера от другой (§ 120) с тем же последствием, через что ее противоположность делается противоречием. Но оба случая выходят к одному, ибо именно здесь доказывается принятое в § 121, 1 единство обеих главных форм тем, что нигде нет такого места, где не давался бы темный задний план в той или другой нравственной связи, становящейся через это обязанностью, которая должна быть в созвучии с другими обязанностями. Наносящее ущерб разрывание есть теперь действительная вина. Вина есть произведение свободы, но свобода, которая не может действовать иначе, так как она есть только свобода единичного, субъекта. Она есть поэтому не иное что, как осуществление перво–вины и в этом смысле в такой же мере и отсутствие вины. Однако тем более обнаруживается, что субъект, развивающий в своем поступке свою величину, именно благодаря этому развертывает свою бесконечную незначительность, исчезающую перед целым. И это противоречащее движение может быть названо ироническим» (§ 123; об иронии также § 124–126). «Все это движение называется судьбой или трагическим. Все предыдущие формы возвышенного, в то время как каждая из них указывает за пределы себя самой, входят в него как в свое единство. Эта наивысшая форма обнаруживается как та, предпосылает их как свои собственные. Но сама она уже не может потеряться ни в какой высшей; и выхождение за свои собственные пределы, в которых лежит существо возвышенного явления, заключается здесь в том, что это абсолютно возвышенное сначала принимает всю почву привходящих явлений в качестве скрытой силы, затем порождает видимость, как будто бы они были субъектом возвышенного, но потом разрешает их в себе в качестве заступающей (их место) силы. Благодаря уничтожению в другое появляется серьезность, но это другое открывает себя скорее как одно, которое поистине лежит в основании всего, что только казалось в предыдущих формах исчезающим в другое, и которое полагает себя в них и в равной же мере снова снимает это положение — как ограничение. Тут — аналитический ход, через конечный вывод которого последний член полагается как первый» (§ 127).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Форма. Стиль. Выражение»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Форма. Стиль. Выражение» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Форма. Стиль. Выражение» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.