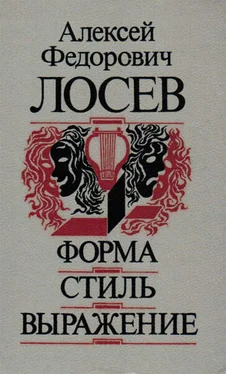В первом изд. «в сущности» запятыми не выделено.
Кант. Κρ. силы сужд.
Кант пишет («Критика способн. сужд.», пер. Η. М. Соколова, стр. 213): наивность есть «взрыв изначала естественной для человечества искренности против искусства притворяться, ставшего для людей как бы второю природою. Смеются над простотою, которая еще не умеет притворяться, и в то же время наслаждаются красотой природы, которая идет наперекор этому искусству. Ожидали будничных привычек и искусственного, рассчитанного на изящную внешность выражения, — и вдруг это сама неиспорченная, невинная природа, которую не ожидали здесь встретить и которую тот, кто ее увидел, и не хотел разоблачать. Именно то, что прекрасная, но лживая внешность, которая в нашем суждении имеет такое большое значение, здесь превращается в ничто, так что как будто бы притворщик в нас самих обнажается, — и возбуждает движение души по двум противоположным друг другу направлениям, что в то же время благодетельно потрясает наше тело. Но то, что нечто, что бесконечно лучше, чем все усвоенные привычки, именно искренность образа мышления (по крайней мере задатки к этому), еще не совсем погасло в человеческой природе, примешивает серьезность и высокое уважение к этой игре способности суждения. Но так как это явление проглядывает на свет Божий только на короткое время и скоро снова окутывается покрывалами искусства притворяться, то к этому вместе с тем примешивается и сожаление, трогательное и нежное, которое, как в игре, вполне может соединяться с добросердечным смехом и обыкновенно действительно с ним соединяется, а вместе с тем тому, кто дает для этого повод, обыкновенно прощают его смущение, объясняя его тем, что он еще не совсем вышколен по–людски. Поэтому искусство быть наивным есть противоречие; но представить наивность в вымышленном лице вполне возможно, и это прекрасное, хотя и редкое искусство. С наивностью нельзя смешивать чистосердечную простоту, которую природа не может искажать только потому, что она ничего не понимает в искусстве общественной жизни».
Шиллер пишет («О наивной и сентиментальной поэзии», пер. М. Достоевского в Полн. собр. соч. Шиллера Н. В. Гербеля, III 480–481): «Прямо из этого противоречия между разумом и рассудком истекает совершенно особенное, смешанное чувство, делающее наивным наш образ мыслей. Оно соединяет детскую простоту с ребяческой, посредством которой открывает рассудку нечаянные промахи и возбуждает ту улыбку, которою мы высказываем свое теоретическое превосходство. Но лишь только мы имеем повод думать, что ребяческая простота есть вместе и детская, что, следственно, причина промаха заключается не в слабоумии, не в немощности, но в высшей практической силе, в сердце, полном невинности и правды, сердце, презревшем из внутреннего величия помощь искусства, — тогда прежнее торжество рассудка проходит и насмешка над простоватостью перерождается в удивление простоте. Мы невольно начинаем уважать предмет, над которым прежде смеялись, и, бросив взгляд на самих себя, сожалеем, что не похожи на него. Таким образом, происходит совершенно особенное чувство, в котором сплавливаются и веселая насмешка, и высокое уважение, и, наконец, тихая грусть. Для всего наивного необходимо, чтобы природа побеждала искусство, — случается ли это против чаяния и воли предмета или с полным его сознанием. В первом случае это наивность внезапности и забавляет нас, во втором — наивность мышления и трогает».
Μ. Carrier е. Aesthetik. Lpz., 1885 3, I 234.
Целиком с Шиллером, впрочем, также нельзя согласиться, так как он вкладывает в наивное содержательную <���В первом изд.: содержательное.> точку зрения, в то время как для меня — это сфера чисто выразительная.
Термин «напыщенное», употребляемый мною в этом контексте, содержит некоторого рода оценку, которая вовсе не обязательна в нашем построении. Можно употреблять и другие термины, хотя и они не вполне отвечают дедуцированному здесь принципу. Так, с оговорками можно говорить о «патетическом», «искусственном» и пр. Известный трактат Шиллера «О патетическом» не вполне относится к нашей теме. В патетическом Шиллер видит всегда возвышенное, и притом морально возвышенное, так что патетическое Шиллер ставит в ближайшую связь с трагическим. Все эти моменты, однако, не входят в нашу концепцию, если ее брать в ее чистоте, хотя, конечно, в реальном переживании и реальной форме они часто и соединяются в собственном смысле.
Читать дальше