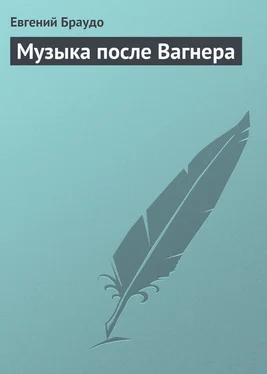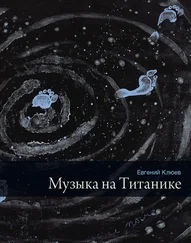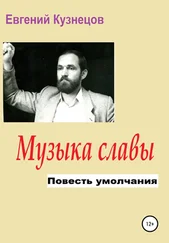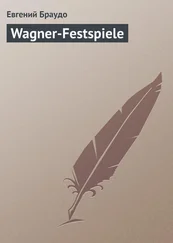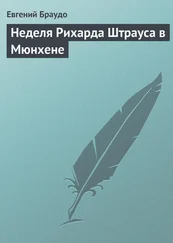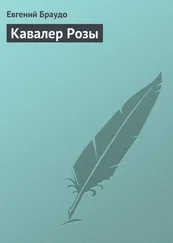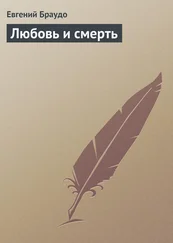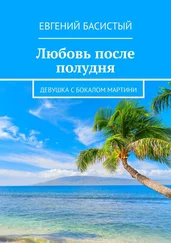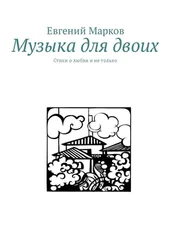Корректный и прекраснодушный музыкант в своем выражении неодобрения совершенно верно характеризовал оркестр Штрауса. В нем больше ста человек, а между тем он является необыкновенно гибким и точным орудием в передаче самых разнообразных тонов в большой скале человеческих страстей. Он весь переливается яркими красками, и простыми, и смешанными, полученными от сопоставления тембров нескольких инструментов. В «Электре», своей новейшей опере, Штраус, повидимому (на сколько, вообще, можно судить по чтению аусцуга), покидает пути декадентствующей музыки «Саломеи» и возвращается к широким формам симфонического оркестра. Рихард Штраус вообще глубоко чувствует архитектурное начало музыки. «Электра», это любимое дитя художественного творчества Штрауса (оказывается, что он задумал написать музыкальную драму на эту тему чуть ли еще не в гимназии и всю жизнь носился с этой мыслью), может быть, явится исходной точкой для нового музыкально драматического синтеза, слияния драмы с симфонической поэмой. Но куда ведут звуковые экстравагантности Штрауса, эти какофонии одновременного сочетания двух (или даже больше) тональностей, которые в «Электре» дают себя еще сильнее чувствовать, чем в прежних его композициях?
Вокруг Штрауса группируется в настоящее время целая плеяда молодых композиторов, не блещущих, правда, особыми талантами, но зато беззаветно преданных идее музыкального прогресса, которую они понимают только в смысле нагромождения все новых и новых технических ухищрений и усложнений в своих симфонических поэмах. Назову нескольких из них Гаузеггер («Барбаросса» и «Кузнец Виланд») Шейнпфлуг отчасти и Шиллингс о котором речь будет еще ниже, Бишоф («Пан») Характерной чертой нашего века является специализация, результат огромного развития техники в XIX столетии. Эта специализация проникла также и в область музыкального творчества Характерный пример – Рихард Штраус. Как ни интересны сами по себе его музыкальные драмы и его лирика, – наиболее сильно его талант все же проявляется в области симфонической поэмы. Другой гениальный музыкант нашего времени, Гуго Вольф, тоже пробовал свои силы и в музыкальной драме, и в симфонической поэме, и в области лирики, но значение его для музыкальной жизни современности всецело ограничивается его песнями, являющимися такими же шедеврами в области лирики, как симфонические поэмы Штрауса в области оркестровой литературы. Вагнерианец чистой крови, Гуго Вольф, как бы унаследовал от своего учителя его способность находить в музыке конкретное выражение для каждой мысли, гармонично сочетать содержание поэтической речи с музыкой. В этом смысле Гуго Вольф может быть назван Вагнером современной лирики. Вольф так удивительно умел передавать все индивидуальные особенности тех поэтических произведений которые служили текстами для его песен, что временами кажется, будто каждая из них является результатом творчества другого художественного я. С одинаковой яркостью он умел передавать в своих песнях и сладкую опьяняющую романтику Mörecke, и ясную глубину и величавый покой философских стихотворений Гете, и мрачную трагику сонетов Микель Анджело и драматизм итальянской песни, и тонкую гамму красок испанских романсов. Вместе с тем Гуго Вольф умел так чутко соединять свои песни в отдельные циклы по их авторам, что получалась цельная картина творчества поэта.
Гуго Вольф раскрыл перед современной публикой все очарование романтической поэзии Möricke, который до появления «Monckezyclus» Вольфа был очень мало популярен даже на своей родине. Любимое сравнение Вагнера, – что музыка – женское начало жизни, которое оплодотворяется мужским началом словом, – всецело подходит к характеру творчества Гуго Вольфа. В высших своих вдохновениях он всецело растворяется в творчестве своего поэта Этим вовсе не сказано, что его индивидуальность совершенно не проявляется на ряду с личностью тех поэтов, стихотворения которых он перелагал на музыку. Личный элемент в его творчестве ярко выражается в том что, сохраняя индивидуальность поэта, он извлекает из него те мотивы, которые больше всего отвечают его собственным настроениям. Это настоящий женственный тип творчества в современной музыке. Гуго Вольф писал свои прекрасные песни исключительно для пения в сопровождении рояля Его аккомпанементы – исключительно красивые произведения современной рояльной литературы. Один из самых чутких поэтов рояля, он выделяется как тонкий знаток его инструментовки. В рояльном сопровождении песен Вольфа перед пианистом открывается такое богатство красок и оттенков, которое мы едва ли знали до него. Вольф на рояле умел воспроизвести решительно всю жизнь: и жуткое молчание смерти (в сонетах Микель Анджело), как и благоуханные мечты фиалки и мягкую игру скрипки, и резкие крики и шум. В какой-то особенно нежной полифонии сочетаются между собою отдельные музыкальные мотивы в песнях Вольфа. Это не грубая полифония оркестра, а гармоничное соединение настроений, вся красота и аромат которых пропадают при оркестровке Вольфовских песен. Сам Вольф не любил оркестра и не владел техникой сложной инструментовки. Его симфоническая поэма «Пентезилея» и опера «Коррегидор», законченная им незадолго до его трагической смерти, оставляют, несмотря на отдельные дивные страницы партитуры, тяжелое, скомканное впечатление.
Читать дальше