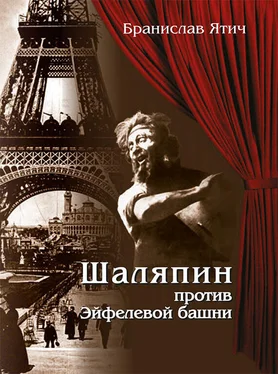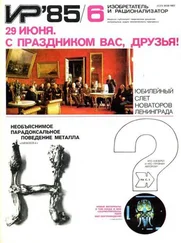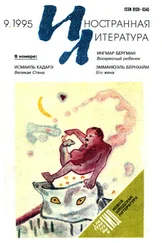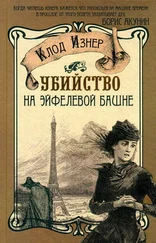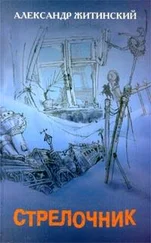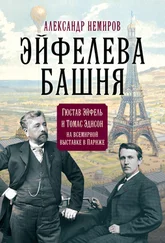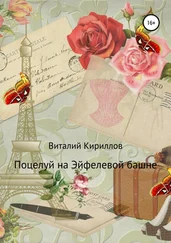Этот пример наглядно показывает, что за чисто звуковым расширением Шаляпиным речитатива Даргомыжского стояло также и расширение психологического содержания.
Интересно, что и в дальнейшем всякий раз при исполнении фразы «В ногу, ребята!» Шаляпин не довольствуется двумя звуками авторского текста – ля, ми : при первом повторении команды он прибавляет к ним ре (14), при втором и третьем – соль-диез (34 и 55).
При четвертом же повторении эта фраза претерпевает особенно знаменательное изменение, так как здесь артист еще больше усложняет психологическую задачу. Почему?
Вначале шаляпинский капрал энергично командует солдатами, ведущими его на расстрел; после же воспоминаний о героическом прошлом («тень императора встала») и мыслей о жене («боже, старуха жива!») интонации капрала постепенно смягчаются, до него как бы доносятся рыдания женщины, сыну которой он спас жизнь («кто же там громко рыдает?») И вот он уже растроган, речь его замедляется, интонации становятся душевно проникновенными… Но все это длится мгновение: как бы «спохватившись» и взяв себя в руки, старик вновь командует солдатами, при этом подчеркнуто энергично и еще более звонко, нежели раньше. Поэтому и приказ его «в ногу!» теперь, как от резкого толчка, взлетает к ноте до-диез , то есть на терцию выше авторского текста (76).
Творчески реализуя поставленную перед собой задачу, Шаляпин не упускает ни одной детали. Стремясь к максимальной реалистичности всей картины «последнего марша», он отказывается от произнесения «раз, два» на одной ноте, как указано во всех строфах авторского текста: счет «раз!» артист связывает большей частью с акцентированным и, главное, с высоким звуком, а счет «два!» – с низким, неакцентированным, то есть «произносит» команду так, как она подается в живом строю, «под шаг». Более того: артист отказывается от однообразного, одинакового во всех строфах повторения этой команды. Он все время меняет интервально-звуковое ее выражение: пока старика не одолели грустные мысли и воспоминания, он считает энергично, твердо, и его команда звучит как кварта ля, ми (19–20); затем (под впечатлением воспоминаний о трагической судьбе Наполеона) его команда становится менее активной, совмещая малую и большую секунды – фа-бекар, ми, фа-диез, ми (39–40); наконец, после воспоминания о доме, жене и мыслей о смерти он считает как бы механически, и счет «раз, два» произносится им без какого-либо акцента, только на интервале малой секунды, то есть почти так, как обозначено в авторском тексте (60–61).
Я уже упоминал об общем эмоциональном строе эпизода воспоминания о русском походе («кто же там громко рыдает?») и о том, что после этого эпизода происходит резкий взлет команды к ноте до-диез. Но самое интересное здесь заключается в том, что этот резкий взлет команды внезапно сменяется безразличным счетом «раз, два» – на малой секунде ( фа-бекар, ми ; 81–82).
Таким образом, Шаляпин очень тонко связывает интонирование «командирского счета» с мыслями и переживаниями капрала. Всякий раз по-иному произнося эти фразы, артист выражает изменение душевного состояния своего героя. По Шаляпину, реалистически живой образ – это обязательно интонационно живой образ. Различного рода изменения ритмического рисунка вокальной партии служат более частным случаям оживления речевой выразительности. Так, в словах последней команды капрала «не гнуться!» (92) ровная триольная ритмика Даргомыжского заменяется чередованием восьмой с точкой и шестнадцатой. Вообще везде, где Даргомыжский положил слова строевого приказа «грудью подайся» на более или менее нивелированные восьмые (три триольных и две простых), Шаляпин, наоборот, дает острый ритм: в одном случае (16):

в другом (78):

В то же время отход от ровного ритма триольных восьмых в других фразах – например, «был я отцом вам, ребята, вся в сединах голова» (9–11), «нет, затянусь еще раз!» (85–86), «близко, ребята, за дело!» (87–88) – должен быть объяснен иными причинами, а именно стремлением Шаляпина передать в пении более темпераментную и порывистую речь.
Помимо изменения интервалики и ритмики вокальной партии Шаляпин часто изменяет соотношения длительности звуков и пауз.
Приведу несколько примеров.
В обращении капрала к солдатам «проводите в отпуск последний меня» (6–8) артист заменяет речитатив кантиленой и несколько замедляет движение. В отличие от композитора Шаляпин выделяет эту фразу. Почему? Потому что ранее в речи капрала к солдатам звучала всего только воинская команда («в ногу, ребята, идите!»). При новом же – приветливом и теплом – обращении к солдатам происходит естественный переход к кантилене и удлинение ряда звуков этой фразы, например, на словах «проводите», «последний» и т. д.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу