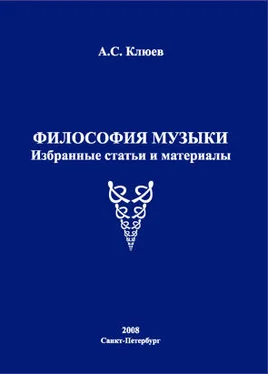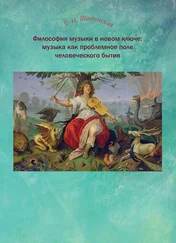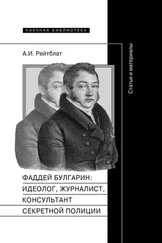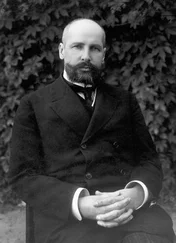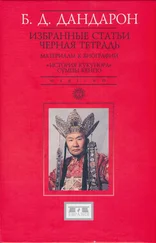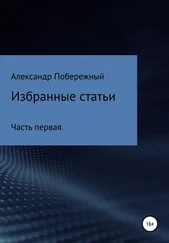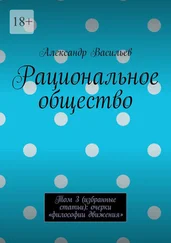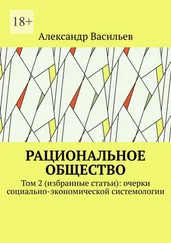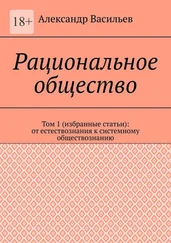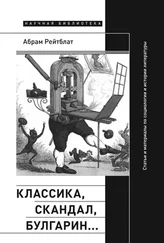В XVII – XVIII вв. музыка вновь рассматривалась преимущественно как отражение мира, жизни (а отсюда – и человека), при этом в характерной, специфической форме: в качестве отражения природы (истолковываемой как вся имеющаяся в наличии действительность, включающая в себя и человека). О подобном понимании музыки наиболее наглядно, на наш взгляд, свидетельствуют слова известного немецкого теоретика музыкального искусства этого времени Иоганна Маттесона: «Искусство звуков черпает из бездонного кладезя природы». [24] Цит. по: Музыкальная эстетика Западной Европы XVII – XVIII веков. М., 1971. С. 252.
Трактовка музыки в указанное время как отражения природы или, как чаще говорили, подражания природе, была представлена тремя подходами. Первый из них заключался во взгляде на музыку как на подражание различным явлениям, в первую очередь звуковым, биологической и физической природы. В связи с этим показательно суждение английского философа Джеймса Хэрриса. «В неодушевленной (физической. – А.К. ) природе, – пишет Хэррис, – музыка может подражать плавному движению, журчанию, шуму и реву, а также всем другим звукам, которые издает вода в фонтанах, водопадах, реках, морях и пр. То же относится к грому и ветру, который может быть слабым и ураганным со всеми промежуточными градациями. В животном мире музыка может подражать голосам отдельных животных, в первую очередь – пению птиц». [25] Цит. по: Из истории английской эстетической мысли XVIII века: Поп. Аддисон. Джерард. Рид. М., 1982. С. 323.
Второй подход, при этом исторически предшествовавший первому, представлял собой истолкование музыкального искусства как подражания различным аффектам. Так, авторитетный французский ученый Марен Мерсенн писал: «Важно, чтобы мы выражали не только наши мысли и чувства, весьма существенно выражать страсти других людей… Вот почему музыка – подражательное искусство в такой же мере, как поэзия и живопись». [26] Цит. по: Шестаков В.П. Вступительная статья // Музыкальная эстетика Западной Европы XVII – XVIII веков. С. 40.
Наконец, третий подход сводился к пониманию музыки как подражания интонациям человеческой речи. Наиболее отчетливо этот подход утверждался в работах выдающегося французского философа, писателя, теоретика искусства и композитора Жан-Жака Руссо (на которого в этом смысле повлиял другой французский философ, ученый – его современник Жан Д’Аламбер [27] Об этом см.: Золтаи Д. Этос и аффект. История философской музыкальной эстетики от зарождения до Гегеля: пер. с нем. М., 1977. С. 232.
). Руссо подчеркивает: «Мелодия, подражая модуляциям (имеются в виду интонации. – А.К. ) голоса, выражает жалобы, крики страдания и радости, угрозы, стоны. Все голосовые изъявления страстей ей доступны. Она подражает звучанию языков и оборотам, существующим в каждом наречии для отражения известных движений души. Она не только подражает, она говорит. И ее язык, нечленораздельный, но живой, пылкий, страстный, в сто раз энергичнее, чем сама речь. Вот в чем сила музыкальных подражаний, вот в чем источник власти напева над чувствительными сердцами». [28] См.: Руссо Ж.-Ж. Об искусстве. Статьи, высказывания, отрывки из произведений: пер. с фр. Л.; М., 1959. С. 254-255.
Первая половина XIX в. – опять переориентация в истолковании музыки. Музыка, как и в эпоху Возрождения, вновь интерпретируется главным образом в качестве отражения человека, человеческой индивидуальности (и в связи с этим – мира, жизни), однако, в отличие от подобной интерпретации в эпоху Ренессанса, – человека, человеческой индивидуальности не как телесно-пластического существа, а душевного (духовного). [29] В первой половине XIX в. душевный уровень проявления человека, по сути, приравнивался к духовному.
(Между прочим, «концепция» музыки первой половины XIX в. просматривается уже в отмеченных нами ранее втором и особенно третьем подходах к интерпретации музыки в XVII – XVIII вв.) Обратимся к популярным для того времени высказываниям о музыке.
Например, один из ярчайших представителей философской и художественно-критической мысли указанного времени немецкий автор В.-Г. Вакенродер утверждает: «Она (музыка. – А.К. ) описывает человеческие чувства сверхчеловеческим языком, ибо она показывает все движения нашей души в невещественном виде…». [30] Вакенродер В.-Г. Фантазии об искусстве. М., 1977. С. 163.
А вот суждение его соотечественника – философа и поэта Новалиса (псевдоним Фридриха фон Гарденберга): «Слова и звуки суть подлинные образы и отпечатки души. Искусство дешифровки . Душа состоит из чистых гласных и из закрытых». [31] Цит. по: Музыкальная эстетика Германии XIX века. Антология: В 2 т. Т. 1. М., 1981. С. 316.
Читать дальше