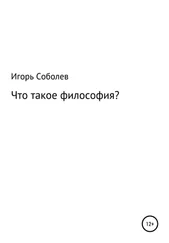В лицее господствовал индивидуальный подход к ученикам, воспитывались навыки самостоятельного мышления, административной, исследовательской деятельности, способность широко оперировать своими знаниями.
По мнению многих, такой приоритет классики позволил создать одну из передовых в Европе того времени систему образования, подготовить фундаментально образованную российскую интеллектуальную элиту, спасти общество от нигилизма и революции. М. Катков с тревогой предупреждал, что плохая, «фальшивая» школа передаёт несчастную молодёжь в руки обманщиков, негодяев и пройдох.
Окончив Катковский лицей, А. М. Моисеев продолжил обучение юридическим и философским наукам в Германии, в старейшем Гейдельбергском университете.
Франция влекла русскую аристократию душой, а в Германию русская интеллигенция устремлялась в поисках знаний, свободы.
О Гейдельберге не говорили, что там есть университет, но подчёркивали, что этот город и есть университет, так как он состоял из университетских зданий и домов, где жила профессура. А ещё он назывался «сплошным студенческим отелем», а также «маленьким русским городом» (по весьма внушительному проценту молодых людей из нашего Отечества в общем числе чужестранцев) с отелем «Руссише хоф». Город был наполнен интересной жизнью, весёлыми и умными людьми и долгое время оказывал важнейшее влияние на происходящее в умах и культуре европейского общества.
Жизнь гейдельбергских студентов была насыщена сказочной театральностью, забавной игрой, приключениями. По свидетельству В. И. Мосоловой, первой учительницы танцев И. А. Моисеева, годы учения в этом весьма необычном старинном городе проходили очень весело.
Студенты делились на корпорации, по земляческому принципу. Часто враждовали. Носили «разноцветные костюмы и шапочки, ленты, знамёна, даже шпаги и рапиры! – чем немало способствовали карнавальности, так прочно утвердившейся в городе. Летом все отмечали особенный праздник – «итальянские ночи», когда к флажкам добавлялись столь же пёстрые фонарики, а город – под отовсюду гремевшую музыку – весь поголовно танцевал!» Весьма красочную картину представляло общество немцев – «шумная, крикливая братия в сапогах необъятных размеров», разбившаяся «на группки с непременным каким-нибудь отличием в цвете шарфа или шляпы».
Не напоминает ли всё это атмосферу изумительных моисеевских «костюмных» творений – кажется, что и его «Сицилианская тарантелла», и «Арагонская хота», и его многочисленные и чрезвычайно разнообразные по хореографической мысли и лексике польки, вихревые и виртуозные, но вместе с тем невероятно лиричные, полные особой поэтичности и тёплой сказочности детских мечтаний, были порождены увлекательными рассказами родителей, которые, конечно же, знали этот мир – колорит старой Европы, в которой от века царил дух карнавальной игры.
Отец Игоря Александровича, Александр Михайлович, до мозга костей дамский угодник, и в преклонном возрасте ходил в лёгкой курточке, клетчатых гольфах и бриджах и с рыжей подкрашенной шевелюрой. Даже своей внучке Ольге он запрещал называть себя дедом – только «дядя Саша».
Студенты из России выделялись всегда. В разное время учащимися этого старейшего университета Европы были А. Бородин, химик и будущий великий композитор, хирург Н. Пирогов, математик С. Ковалевская, учёные Д. Менделеев и И. Сеченов, художник Л. Бакст.
Отправляя в Германию детей, родители наивно полагали, что уберегают своих сыновей от революционной заразы. Но не тут-то было! Русское общество Гейдельберга делилось и по политическому признаку – на либералов и консерваторов, социалистов и монархистов, поддерживавших Герцена, записывавшихся на защиту восставшей Польши или в отряды Гарибальди. Хотя, конечно же, профессура пыталась предостеречь своих воспитанников «об опасности борьбы «всех против всех», которую несут с собой «демократизация общества». Но политическая нечуткость была потрясающей. Успокаивались на том, что вполне изящно приспосабливали все вредные революционные идеи кантовскому учению.
Так, и отца Игоря Александровича отправили в своё время за границу из боязни, что его потянет «в революцию» – он уже в своей ранней молодости, как вспоминает Игорь Александрович, «был на очень плохом счету в политическом отношении. Отца не привлекали социалисты или кадеты. Он ударился в крайность – анархию. Правда, больше на словах, чем на деле. Чего отцу не хватало – это желания и умения реализовать те изумительные идеи, которые он высказывал. Этакий тургеневский Рудин». И история эта вполне в духе гейдельбергской атмосферы игры. Игры в умах и действиях.
Читать дальше


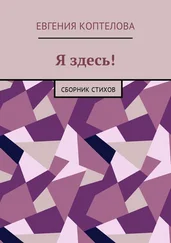
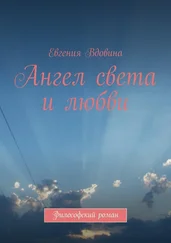
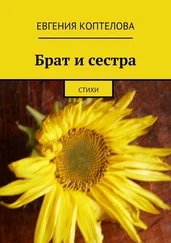


![Игорь Алгранов - Академик [СИ]](/books/423604/igor-algranov-akademik-si-thumb.webp)