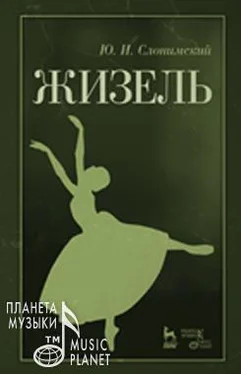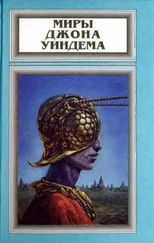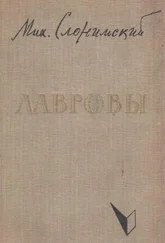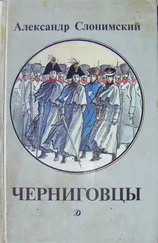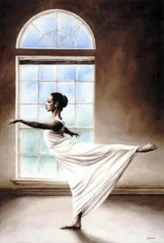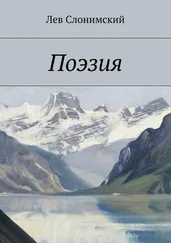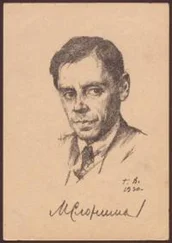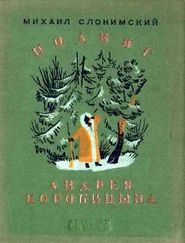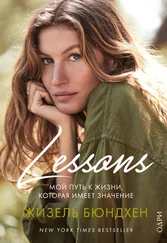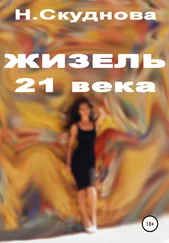Сцена гадания на цветке, – заметил С. В. Бомонт, – могла быть заимствована из гётевского «Фауста».
Авторы считали собственным сочинением высшую точку I акта – сцену безумия героини. На самом деле, «около 30-х годов нас часто потчевали сумасшедшими», – писал Готье. Иностранные исследователи приводят в пример оперу Доницетти «Лючия ди Ламмермур» (1839), оперу-балет Обера «Озеро фей». Старинный балет «Нина, или Сумасшедшая от любви» даже возобновили на сцене Оперы в 1840 году. Нечто схожее было и в балете «Сомнамбула». Вернувшийся из Петербурга Адан так был увлечен сценой безумия в балете «Морской разбойник», показанном в России, что использовал эту свою музыку для аналогичной сцены в «Жизели». Даже подробности ее (воспоминание о танце с любимым) имелись в соло «сумасшедшей от любви» Нины из одноименного балета. В «Деве Дуная» тоже была аналогичная по типу сцена; только сходил с ума герой, а не героиня. Пригодились и мелочи из старых спектаклей: могущество креста, спасающего Альберта от вилис, пришло из балета «Влюбленный бес»; в данном случае Сен-Жорж цитировал сам себя.
Такова закономерность развития балетного искусства: новое сохраняет незримые нити связи со старым; весь вопрос лишь в том, как, во имя чего оно используется. Вряд ли состоятельны попытки (а они имеются в зарубежной литературе) отрицать или умалять значение «предков» «Жизели», видеть между ними непроходимую пропасть. Надо сопоставить ее с предшественниками, и тогда пережитки старого предстанут в истинном свете.
«Жизель» – блистательный итог пройденного и столь же блистательный шаг вперед. Здесь подали друг другу руки учителя и ученики: Доберваль и Дидло объединились со своими преемниками – Перро и Коралли. В I акте торжествуют принципы «Тщетной предосторожности», обогащенные опытом танцевального действия Дидло, во II – принципы «Зефира и Флоры», обогащенные опытом романтического балета Тальони и др. Непримиримые, казалось бы, враги в театре Дидло побратались в театре Перро – Коралли: два противоположных вида драматической экспрессии приобрели на время то единство, которое дает спектаклю огромную власть над поколениями зрителей.
Однако неизвестно, что больше обогатило «Жизель» – балетная практика или творчество великих современников Готье и Сен-Жоржа – Гюго и Гейне. Думается, что второе имело решающее значение для судьбы зачатого балета. Тесные связи Готье с Гейне делают достоверными высказывания поэтов друг о друге, заставляют внимательно изучать Гейне. Авторов «Жизели» вдохновляли в других сочинениях поэта ночные пляски духов стихий; могилы, из которых появляются призраки; девушка, приходившая ночью на свидание с умершим возлюбленным; юноша, которого феи заставляют вступить с ними в безудержную пляску… Вот строки Гейне, подсказывающие драматургическую кульминацию I акта «Жизели»: «Характерной чертой народных сказаний является то, что самые страшные катастрофы в них обычно происходят на свадебных празднествах. Внезапный ужас тем резче контрастирует с радостной обстановкой, с приготовлениями к празднеству, с веселой музыкой…». Вспоминаются его слова о неспособности духов воздуха, подобно людям, «передвигаться… прозаически-обыкновенной походкой». Постановщик нашел ее в полном соответствии с образом поведения духов стихий, описанных Гейне. Есть у него и подсказка финала танца вилис. «Когда на церковной башне ударит колокол, с криком они скрываются в могилах».
Гейне был предубежден против балета Оперы, усматривая в нем отражение вкусов верхушки буржуазного общества. Тем не менее ради дружбы с Готье и желая увидеть, что стало с преданием в «Жизели», пошел на спектакль и написал отчет о нем. «Если не считать удачного сюжета, заимствованного из сочинений одного немецкого автора, неслыханному успеху балета «Вилиса» более всех содействовала Карлотта Гризи. Но как она прелестно танцует! Когда смотришь на нее, забываешь, что Тальони – в России, что Эльслер – в Америке, забываешь о самой Америке и России, да и обо всем на свете, и возносишься вместе с нею в висячие волшебные сады того царства духов, где она – королева. Да, у нее именно характер тех духов стихий, которых мы представляем себе вечно пляшущими и о величественных плясках которых народ рассказывает также чудеса…». Соответствует ли музыка причудливому сюжету этого балета? – спрашивает Гейне. Требовались «плясовые мелодии, от которых, как говорится в народном предании, деревья начинают прыгать, а водопад повисает в воздухе… Нет, столь властно-могучих мелодий г-н Адан не привез из своего северного путешествия, но и то, что он написал, все же заслуживает внимания…». Итак, Гейне безоговорочно принял сценическую интерпретацию сюжета и одобрил образ Жизели, созданный Гризи. В этом ключ к пониманию едва ли не самых важных обстоятельств, связанных с рождением «Жизели».
Читать дальше