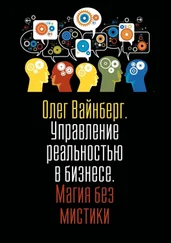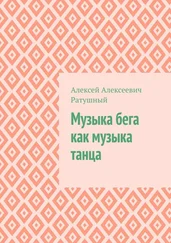Теперь мы знаем – нет, так сказать было бы слишком смело, – теперь мы догадываемся, какое значение гармония сфер приобретает для земной гармонии, что такое «чуткий слух», «дивный лад, дремлющий во всех созданиях», «звук, звучащий через все звуки». В идее об этом первозданном звуке, который остается абстрактным, пока мы не превращаем его в конкретную форму в силу нашей внутренней Божественности, покоится древняя мысль о всем музыкально-творческом, выходящем даже за пределы гармонии сфер. Было бы человечество счастливо, слыша первозданный «абстрактный звук» без «гармоничного посредничества» сфер? Возможно, этот вопрос преждевременен. Но вспомним, что в двух случаях «абстрактный звук» становился причиной безумия, потому что люди были не в силах слышать его непрерывно. Речь идет о Роберте Шумане, который в конце своей жизни беспрерывно слышал высокий звук, и о Фридрихе Сметане, впавшем в безумие, потому что «абстрактный звук» (назовем его так) преследовал его день и ночь. Он проклял этот звук на вечные времена как явный диссонанс в своем струнном квартете «Из моей жизни».
Мы прибыли в конечный пункт на нашем пути познания. Остается только прояснить вопрос, какое значение следует придавать представленным сведениям.
Кто умеет читать между строк, мог почувствовать, что эти рассуждения содержат однозначный отказ от всех видов музицирования, которые не проистекают из глубин души и приводят к злоупотреблению творческими силами.
Композитор, запускающий сети своей фантазии в глубины душевного моря, иной раз боится поднимать их целиком с самого дна. Он довольствуется соблазнительной мишурой, мерцающей на поверхности между легкодоступных ячей. Однако и яркие безделицы, относящиеся к миру музыкального развлечения, шлягера, должны выполнять свои функции в жизни и в дополнение к «тяжелой пище», содержательной и серьезной классической музыке, служат необходимой разрядке и увеселению. Но чем глубже под зеркало души опускаются сети творческой фантазии, тем ценнее сокровища, которые застревают на дне в их ячеях. И то, что композитор, напрягая все свои силы и чуть ли не превозмогая себя, поднимает со дна, – это не просто им ожидавшаяся и желанная находка великих ценностей. Это – общее прошлое человечества, покоящееся на дне души, это – нерасторжимые связи современности с первоначальным, это – сокровища бессознательного, которые с незапамятных времен лежат затонувшими в душевном море и дожидаются своего часа, чтобы зазвучать в унисон и быть пережитыми, когда композитор меряет свое творение мерилом современности [107]. Так созидающий включается в бесконечный процесс становления, связывающий его со всем прошлым, чтобы появилось будущее. Стало быть, и музыкальное произведение является лишь звеном в необозримой цепи причин и следствий, простирающейся вплоть до непостижимых глубин подсознания, фрагменты которого звучат в унисон в его творении: отдельный звук, бывший когда-то объектом поклонения, гамма, в которой все еще робко поблескивают следы былых солнечных элементов, октава, которая, восходя, связывала человека с Богом, а нисходя, взывала к таинственным силам космоса. Сделать снова осознанным бессознательное в границах закономерно возможного – это многообещающая задача, решая которую композитор из бесконечно далеких и глубоких пространств получает душевную энергию, происходящую от Божественного Существа.
Имеет ли мир акустической лаборатории хоть что-нибудь общее с этими представлениями? Сравнима ли «ведьмовская кухня» электронной музыкальной студии, оснащенная магнитофоном, осциллографом, синтезатором и монтажным столом, с обычными формами музицирования? Мы рады были бы обойтись без постыдной необходимости вообще упоминать эти объекты музыкального производства и даже были бы готовы признать за ремесленниками от музыки, что их эксперименты могут способствовать обогащению мира звуков, если бы они ограничивались своим относящимся к физике полем деятельности. Вместо этого они стремятся удовлетворить свое честолюбие, превращая концертный подиум в лабораторию и присваивая себе звание композитора, которым прежде дорожили наши величайшие мастера.
А как обстоит дело с искусством додекафонической музыки? Нашла ли она за десятилетия своего существования такой же отклик, как искусство в свое время «по-новому звучащих» классиков, ведших когда-то точно такую же отчаянную борьбу? Ведущие представители школы Шёнберга, например Вернер Хенце, уже отворачиваются от «паролей, манифестов и школ» и вновь объявляют себя приверженцами великой европейской традиции. «В истории музыки никогда не было такой догматичной и безжизненной системы, как так называемая додекафоническая музыка, – сказал выдающийся композитор Дмитрий Шостакович. – Она убила душу музыки, т. е. мелодию, разрушила форму, красоту гармонии, богатство естественного ритма и вместе с тем уничтожила всякий след содержания, человечности музыкального произведения» (из газетных сообщений). Всегда рискованно писать на злобу дня и делать прогнозы в книге, а не в бренной периодике. Но как душевно обнищало бы человечество, если бы недобросовестные люди лишили его веры в вечное, если бы осквернители церкви безнаказанно могли превращать святые места в ярмарочную площадь! Но как уже глубоко опустилось человечество, раз оно беспрекословно позволяет навязывать себе пустозвонство шутовских бубенцов, выдаваемое за художественные откровения, и расхваливает всякое насилие над звуками как опережающую время ценность, вместо того чтобы объединиться в сплоченных актах протеста, выступая за революцию души!
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
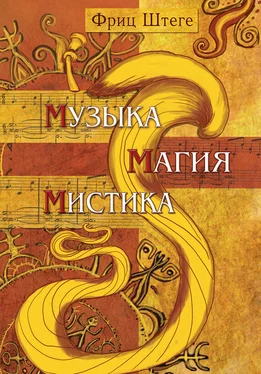
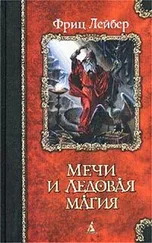
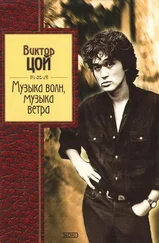
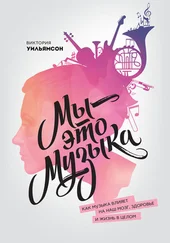
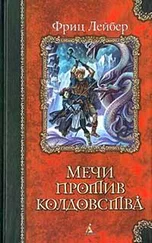
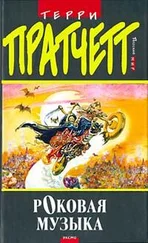

![Аре Бреан - Музыка и мозг [Как музыка влияет на эмоции, здоровье и интеллект]](/books/398841/are-brean-muzyka-i-mozg-kak-muzyka-vliyaet-na-emoc-thumb.webp)
![Фриц Лейбер - Мечи и черная магия [сборник]](/books/422980/fric-lejber-mechi-i-chernaya-magiya-sbornik-thumb.webp)