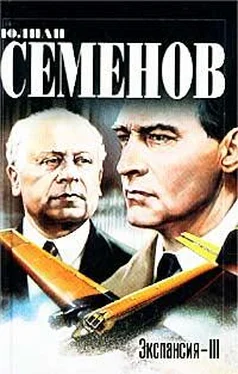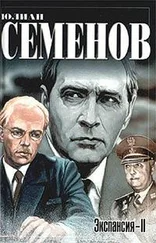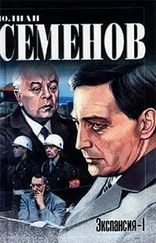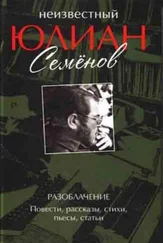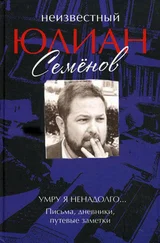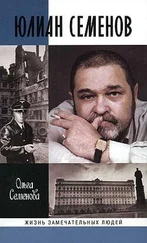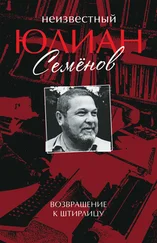«За что ты зовешь людей к бунту против меня? – прошептал Медичи. – Чем я прогневил тебя?»
«Любимый брат, я молю у бога выздоровления тебе, – ответил Савонарола, – однако оно не настанет, если ты не отречешься от буйства плоти и веселья, от развратных маскарадов и громкой всепозволенности, ощущаемой твоими пьяными поэтами... Мир рожден для схимы, тишины и благости, только тогда несчастным откроется царство божие». – «А ты был там? – усмехнулся Медичи. – Ты его видел? Я хочу дать радость людям творчества здесь, на этой грешной земле, а ты сулишь им, чего сам не видел. Реальность – это то, что можно пощупать, вкусить, увидеть». – «Ты богохульствуешь, Лоренцо Медичи, ты живешь на потребу себе». – «А ты?» – «Я отдаю себя людям». – «Это как?» – «А так, что мне не нужны застолья, словеса, женщины, мне нужна лишь одна справедливость». – «А разве человек может быть мерилом справедливости? Почему гениальный Боттичелли тянется ко мне, а на твои проповеди не ходит?» – «Потому что он дитя искусств, и он дает людям ложные ориентиры, он плохой навигатор, им движет собственное Я, а не царственная множественность Мы». – «Значит, ты выражаешь желания множественного Мы, а я служу бренному человеку, его одинокому, скорбному Я?» – «Я – это дьявол, Лоренцо Медичи, а Мы – бог». – «Мы состоим из бесчисленных Я, монах. Справедливость – это хорошо, тем более правда, но ни того, ни другого нельзя достигнуть, можно лишь приблизиться к ним... И чем четче будет выявлено каждое Я, тем вероятнее приближение... Ты взял на себя право учить всех добру – это опасно... Предостерегай от зла – нет ничего важнее для монаха, чем это... Ты лишен радостей жизни, ты воспитан в схиме, как же ты можешь знать, что такое правда и счастье»? – «Я верю в слово божие – это счастье и правда, а ты глумишься над ним, ставишь себя с ним вровень, живешь всепозволительно, не ограничиваешь желания, поэтому и умрешь». – «Я умру, это верно, я скоро умру, но я умру не так, как ты, ибо тебя распнут за то, что ты рьяно и жестоко насаждаешь справедливость, а это вроде как служить сатане; справедливости угодна доброта и позволенность мыслить иначе, чем ты. Подумай о моих словах, несчастный монах, иначе ты принесешь много горя людям, нет ничего страшнее добрых фанатиков, которые сулят счастье взамен слепого послушания; Платон только потому и остался в памяти людей, что он исповедовал спор разных позиций».
– С этим и умер Медичи, – после долгой, томительной паузы закончил режиссер. – А Савонарола, проведший семь лет в доминиканском монастыре, умертвив свою плоть, живший словом Библии и видением равенства всех перед богом, начал бунт против папства – во имя истинной веры; он мечтал превратить идеал в существующее, сделать его материей, но разве такое возможно? Он, настоятель собора Святого Марка, построенного дедом Медичи, не дал меценату Лоренцо последнего напутствия, ибо греховность радости земной была ему вчуже... Каждый, кто падет с женщиной, – заслуживает казни; каждый, кто пригубил кубок, – попадет в ад; каждый, кто живет своей мыслью, а не строкой писания, – сын сатаны! Разве добро может быть судией?!
– А если зло? – спросил Роумэн; поскольку режиссер был зажат потной, алчно внимавшей ему толпой, на Пола зашикали; Джо Гриссар, тем не менее, обернулся к Роумэну, посмотрел на него с нескрываемым интересом и, улыбнувшись Фрэнку Синатре, спросил:
– Вы имеете в виду здешние процессы против Брехта и Эйслера? Я вас верно понял?
– Не только здесь, – ответил Роумэн, чувствуя на себе взгляд Синатры. – В Европе тоже хватало такого рода процессов.
– В моей новой ленте будет очень жесткий финал, – ответил Гриссар. – На фоне безмолвного лица очаровательной и кроткой Жозефины, – он мягко улыбнулся актрисе и вытер свое мясистое лицо громадной ладонью, – диктор сухо прочитает: «Папа Юлий Второй решил канонизировать Савонаролу, несмотря на то что тот был сожжен его предшественниками как еретик; Рафаэль сделал его портрет; папа Павел Четвертый, вычеркнув всего несколько строк, позволил цензуре дать штамп на опубликование проповедей бунтовщика, – новой власти угодны погибшие бунтовщики, которые восставали против роскоши и свободомыслия единиц во имя справедливости для всех, что, конечно же, невозможно...»
– Давайте я сыграю у вас Боттичелли, – посмеялся Роумэн. – Это мой любимый художник, а ведь при этом, говорят, он был связан с тайным орденом мстителей...
Гриссар переглянулся с Синатрой и, рассекая толпу как дредноут, двинулся к нему:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу