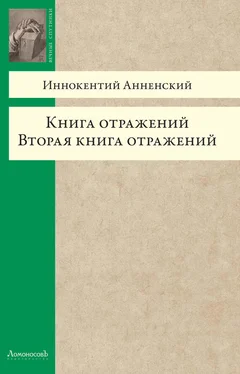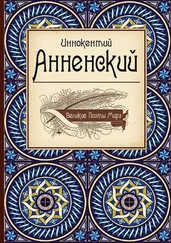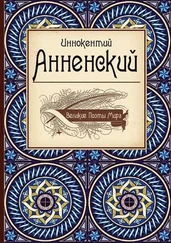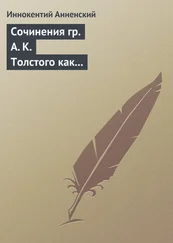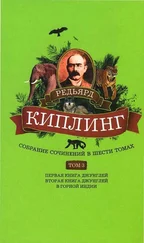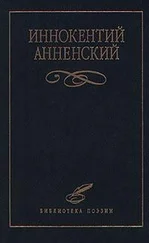Представьте же себе теперь, что портрет писан с человека с сильной и страстной душой и что писал его художник, которого и испугала и пленила выразительность глаз этого человека, допустите, наконец, что художнику удалось искусно передать на полотне немую загадку живописуемого им лица, т. е. возбудить и, может быть, даже усилить страх ваш перед этой загадкой, освободив ее от смягчающей ее остроту единообразно-пошлой телесности, – и вы получите ключ к той чудной повести, которую Гоголь написал дважды 10и в которую он вложил себя более, чем в какое‐либо другое из своих произведений.
II
…Это были совсем живые глаза: казалось даже, будто кто‐то вырезал их из живого человека и вставил в лицо, написанное на холсте. Строго говоря, глаза эти не составляли даже предмета искусства, и хотя только истинный художник мог столь живо и точно передать на полотне природу, но глазам гоголевского портрета недоставало той просветленности, которая составляет главный признак создания эстетически-прекрасного.
Только не надо эту просветленность смешивать с светлотой и ясностью впечатления. Картина может изображать нечто не только мелкое и низкое, но даже грубое, жестокое и бесчеловечное; она может посягать и на проникновение в тот мир смутных прови`дений, где огонь вспыхивает лишь изредка и то на самое мелкое дробление минуты: кисть иногда может только ощупью искать контуры передаваемого ею впечатления, – и тем не менее просветленность как неизменное свойство художественно-прекрасного будет сопровождать вас в созерцании картины, если она действительно достойна этого имени. Просветленность – это как бы символ победы духа над миром и я над не-я, и созерцающий произведение искусства, участвуя в торжестве художника, минутно живет его радостью. При этом радость созерцания столь же несоизмерима с тою, которую дает нам жизнь, насколько сострадание наше лишь художественно существующим лицам мало похоже на жгучее чувство боли и обиды за угнетенных вокруг нас людей. Первое расширяет и просветляет людям горизонт, второе напрягает мускул правой руки. Наша радость, наша жалость и наш страх в области прекрасного не только совместны, но даже в известной мере однородны: по крайней мере, они легко сливаются душою в одно нежное волнение, которое не только приятнее, но и безусловно выше и тоньше всех остальных волнений благодаря своему интеллектуальному характеру. Дело в том, что все силы нашего ума: память, способность суждения и фантазия – не только не угнетаются восприятием художественного, каково бы ни было его содержание, а наоборот, именно благодаря творческой красоте впечатления или обостряются, или получают новые крылья. В этом и лежит залог широкого развития сил человеческого духа в области эстетической, а также и ее законнейшего самодовления. Но отчего же столь искусно написанные глаза азиата-ростовщика, вместо оживляющей просветленности, сеяли вокруг себя ужас и несчастия? Гоголь думал, что в их создании, несмотря на точное копирование природы, черта за чертой и пятно за пятном, не было момента симпатии, что портрету недоставало отпечатка духовного родства между его создателем и тем, что он писал. Гоголь думал, что есть два вида подражательного воспроизведения природы и что портрет ростовщика (или антихриста, как значилось в первой редакции) был делом первого из подражаний, менее совершенного и эстетически даже незаконного. Так ли это? Я думаю, что в живописи не может быть, с одной стороны, рабского, мертвенного подражания природе, а с другой – одухотворенного, а может быть только более или менее искусное подражание. Что значит рабское подражание? Разве средства живописи те же, которыми располагает живописуемая природа? Копировать можно картину, а как же вы будете непосредственно, тем более рабски, передавать на полотно воздух, огонь или дерево, копировать предметы, столь не однородные вашим восприятиям, – передавать кистью то, что может перейти с вашей сетчатки на полотно лишь целым рядом ступеней. Чем длиннее был этот ряд, чем лучше вы освещали свой путь и чем отложе и мельче были ваши ступени, тем спуск этот, который непременно так или иначе отразится на полотне, будет свободнее и легче. Писать можно, только подражая природе, но подражать природе нельзя, пренебрегая ею, т. е. не стараясь понять ее, а для живописца смотреть и значит любить, как для музыканта любить значит слушать. Чартков не подражал природе – он сочинял ее, он копировал не природу, а схемы, произвольно созданные им для грубых глаз черни. Если он побеждал, то это не было торжество творческого духа над хаосом впечатлений, а лишь победа ловкого фокусника над легкомысленной толпой, которая платит ему рукоплесканьями и деньгами за издевательство над ее же суетностью и простотой. Но и тот художник, который написал старого азиата и потом пошел в монахи, испугавшись рокового влияния воспроизведенного им на полотне отражения души, не сытой человеческими несчастьями, – тот художник тоже не дал настоящей картины, не потому, однако, чтобы он рабски подражал природе, а потому, что, напротив, природа победила его в данном случае своей эстетической неразрешимостью. Для гения нет в природе мелкого и ничтожного штриха, но нельзя из этого заключить обратно, чтобы всякая эстетическая задача была под силу художнику, не одаренному всеобъемлющею силой гения.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу