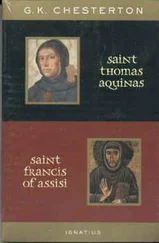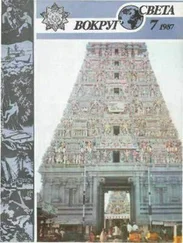– Другого пути нет, – сказал он. – Тому, кто верит во всевластие мысли, надо разбить сердце. Благодарение Богу за твердые камни и жестокие факты! Благодарение Богу за тернии, преграды, долгие годы и пустые дни! Теперь я знаю, что не я – сильнейший. Теперь я знаю, что не все могу вызвать мыслью.
– Что с вами такое? – спросил его друг.
– Теперь я это знаю, – говорил Гейл. – Если бы воля и мысль были всесильны, нас было бы здесь не трое, а четверо.
Наступило молчание, и стало слышно, как в синем воздухе жужжит муха. А когда поэт заговорил снова, врачи ощутили, что в его сознании приоткрылась дверь и звонко захлопнулась.
– Все мы привязаны к дереву, пригвождены вилами. Пока это так, мы знаем, что не упадут звезды и не растает земля. Неужели вы не поняли, какую хвалу вознес Сондерс, когда, простояв у дерева ночь, узнал благую весть, гласившую, что он – человек?
Доктор Баттерворт смотрел на него со сдержанным любопытством. Глаза у Гейла сияли, словно светильники, и говорил он так, как говорят люди, читающие стихи.
– Я знаю как врач, что вы здоровы, – сказал он наконец. – Иначе бы я в этом усомнился.
Гэбриел Гейл остро взглянул на него и сказал другим тоном:
– Не надо! Вот она, единственная моя опасность.
– Какая? – спросил Баттерворт. – Вы боитесь, что вас признают сумасшедшим?
– Да признавайте на здоровье! – воскликнул Гейл. – Неужели вы думаете, что я бы особенно расстроился? Неужели вы думаете, что я не радовался бы в больнице пыли в луче или тени на стене? Неужели вы думаете, что я не благодарил бы Бога за красный нос санитара? Наверное, в сумасшедшем доме очень легко быть нормальным. Мне было бы гораздо лучше в тихом затворе больницы, чем в высокоумных клубах, кишащих неумными людьми. Не так уж важно, где размышлять остаток дней, лишь бы мысли были здравы. А то, о чем сейчас сказали вы, – истинная моя опасность. Именно в этом смысле прав Гарт – мне вредно быть с сумасшедшими. Когда мне говорят, что меня не понимают, что не видят простейшей истины: «Человеку опасно считать себя Богом»; когда мне говорят, что это – метафизика и собственные мои выдумки, тогда я в опасности. Я могу подумать о том, что хуже веры в свое всесилие.
– Я все-таки не понял, – сказал Баттерворт.
– Я могу подумать, – сказал Гейл, – что я один нормален.
Через много лет Гарт узнал продолжение этой истории, странный эпилог нелепого действа о вилах и яблоне. В отличие от Гейла Гарт прежде всего руководствовался разумом и мог считаться рационалистом. Он часто спорил в ученых обществах и клубах с разными скептиками, которые нравились ему, хотя утомляли его своим упорством, а иногда и глупостью.
В одной деревне пустовало место сельского безбожника: сапожник, по прискорбной своей извращенности, верил в Бога. Правда, обязанности его исполнял преуспевающий шляпник, прославившийся игрой в крикет. На крикетном поле он часто сражался с другим искусным игроком, местным священником. На поле богословских споров они сражались реже – священник был из тех, кого очень любят, главным образом за спортивные успехи, и хвалят, говоря, что они совсем не похожи на священников. Он был высокий, веселый, крепкий, у него было много сыновей-подростков, и сам он больше напоминал подростка, чем взрослого. И все же иногда они со шляпником спорили. Жалеть поборника веры не надо – уколы поборника науки не трогали его. Веселость и бодрость были как бы завернуты в кокон или защищены толстой, как у слона, кожей. Но один странный разговор запал шляпнику в душу, и он рассказал о нем Гарту тем растерянным тоном, каким рассказывает материалист о встрече с привидением. Священник играл с ним однажды в крикет и все время над ним подшучивал. Быть может, шутки эти проняли наконец достойного вольнодумца, а может быть, сам священник вдруг заговорил серьезней, что тоже не доставило радости его противнику. Как бы то ни было, священник вдруг высказал свой символ веры.
– Бог хочет, – сказал он, – чтобы мы играли честно. Да, это Ему и нужно от нас: чтоб мы честно играли.
– Откуда вы знаете? – с необычным раздражением спросил шляпник. – Откуда вам знать, чего хочет Бог? Вы-то Богом не бывали!
Наступило молчание, и люди видели, что безбожник удивленно глядит на румяное лицо пастыря.
– Нет, бывал, – странно и тихо ответил священник. – Я был Богом часов четырнадцать. А потом бросил. Очень уж трудно.
Достопочтенный Герберт Сондерс ушел с площадки к поджидавшим его деревенским детям и заговорил с ними весело и сердечно, как всегда. А мистер Понд, безбожник и шляпник, долго не мог прийти в себя, словно увидел чудо. Позже он признался Гарту, что из широкого румяного лица как из маски выглянули на миг чужие глаза, пустые и страшные, и теперь, когда он их вспоминает, ему мерещится глухая аллея, дом с пустыми окнами и бледное лицо безумца в одном из этих окон.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу