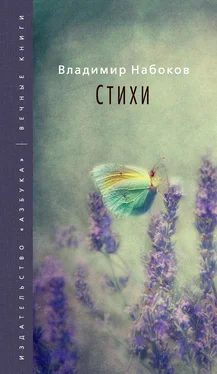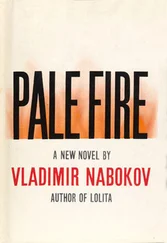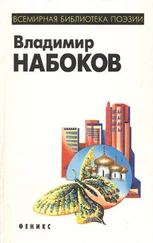Стихотворение «Поэты», подписанное именем Василия Шишкова, увидело свет в июле 1939 года в выходившем в Париже ведущем журнале русской эмиграции «Современные записки». За этим последовала известная история с хвалебной рецензией на него Г. Адамовича, публикацией рассказа Сирина «Василий Шишков», разоблачившего истинное авторство стихотворения, новым ответом Адамовича и выходом еще одного шишковского стихотворения, «Обращение» [48] См.: Маликова М. Э . Фантомный парижский поэт Василий Шишков // Русская литература. 2013. № 1. С. 191–210.
. Многие исследователи в интерпретации этой истории солидаризовались с предложенной самим Набоковым десять лет спустя и неоднократно им повторенной версией, будто это была попытка «испробовать на деле, будет ли он [Адамович] так же вяло отзываться о моих стихах, если не будет знать, что они мои» [49] Набоков В. Стихи и комментарии [Заметки к поэтическому вечеру в Нью-Йорке, май 1949]; цит. по: Шраер М . Набоков: темы и вариации. СПб.: Академический проект, 2000. С. 220.
. Другие ставили эту версию под сомнение, указывая, что Набоков не мог твердо рассчитывать на то, что Адамович обратит внимание на первое и единственное стихотворение доселе неизвестного поэта, – и, следовательно, поэтику и прагматику «Поэтов» нельзя сводить к розыгрышу критика, с которым у Сирина были сложные отношения [50] См.: Мельников Н. Г. «До последней капли чернил…»: Владимир Набоков и «Числа» // Литературное обозрение. 1996. №. 2. С. 73–83; Долинин А. А. Плата за проезд // Долинин А. А. Истинная жизнь писателя Сирина: Работы о Набокове. СПб.: Академический проект, 2004. С. 270–271.
. Кроме того, в поэтике стихотворения ничто не давало оснований заподозрить авторство Сирина, который к тому же с 1934 года стихов не печатал, поэтому, в частности, высокая оценка, данная Адамовичем «Поэтам», никак не могла служить разоблачением его предвзятости по отношению к Сирину. Мы оставим в стороне версию розыгрыша, соответствующую главным образом литературной персоне эмигрантского писателя Сирина, придуманной Набоковым в американские годы, и сосредоточимся на поэтике стихов Шишкова.
Рассмотрение шишковских стихотворений как небольшого цикла (именно так, рядом, они помещены в сборнике Набокова «Стихотворения 1929–1951 гг.» без указания на псевдонимный характер их первой публикации) проявляет их тематическое и стилистическое единство, а также связь с личными темами, актуальными в 1939 году для Набокова, готовившегося «вследствие событий, вторично разбивших нашу жизнь» [51] Набоков В. Определения / Публ. А. Бабикова // Звезда. 2013. № 9. С. 119.
, покинуть континент и сжимающийся мир русской эмигрантской литературы. Шишковские стихотворения объединены темой прощания поэта с дорогим ему прошлым, мучительного отказа от всего, что с ним связано, и перехода в новое состояние, которое описывается как сходное со смертью («нагорный вереск», «пустыня ли, смерть, отрешенье от слова», «я спустился в долину»). Поэт прощается с юностью («оглянулся я, и удивительно, / до чего ты мне кажешься, юность моя, / по цветам не моей, по чертам недействительной»), с томящим и мучающим его современным миром («не видеть всей муки и прелести мира»), отказывается даже от воспоминаний о России, от русского языка, от собственных «снов» и «имени».
Если тематически шишковские стихи вполне автобиографичны или, вернее, автопсихологичны, то их поэтика не похожа на поэтику Сирина – «поэтического старовера», «парнасца», каким его знала эмигрантская публика. Впрочем, к 1939 году Набоков, уже в начале 1930-х писавший другие, не сиринские стихи, почти отказался от фигуры Сирина. Последнее перед шишковскими стихотворение, «L’Inconnue de la Seine», было им напечатано в 1934 году с подзаголовком «Из Ф. Г. Ч.», то есть, вероятно, из стихов Федора Годунова-Чердынцева, героя романа «Дар», над которым Набоков тогда только начал работать; далее вышел роман «Дар» со стихами его протагониста и два шишковских стихотворения, а в американской эмиграции он выступал как Набоков или Набоков-Сирин. Можно сказать, что имя Василия Шишкова было поэтической маской, переходной от Сирина к Набокову.
Объяснение тому, как произошла столь резкая смена поэтики и позиции Набокова, отчасти, вероятно, можно найти в изменении его отношения к миру русской эмиграции, а именно в «эпилогическом» его восприятии. Теперь эмигрантская литература стала для него не местом «литературной войны», а нейтральным арсеналом фрагментов поэтик и судеб, почти не связанных с принадлежностью к конкретным авторам, относительно которых Сирин в свое время высказывал те или иные оценки [52] О своеобразии интертекстуальности Набокова, не полностью поддающейся описанию в рамках метода, разработанного К. Ф. Тарановским и его последователями на материале творчества О. Мандельштама, см.: Ронен О. Подражательность, антипародия, интертекстуальность и комментарий // Новое литературное обозрение. 2000. № 42; Двинятин Ф. Набоков, модернизм, постмодернизм и мимесис // Империя N. Набоков и наследники: Сб. статей / Ред. – сост. Ю. Левинг, Е. Сошкин. М.: Новое литературное обозрение, 2006.
. Эмигрантский литературный контекст утратил для Набокова актуальность в конце 1930-х в связи с его вынужденными планами, под угрозой надвигающейся войны, перебраться с семьей в англоязычную страну. Однако, как представляется, толчок этому процессу дало поэтическое молчание и отчаяние Владислава Ходасевича, поэта и критика, высоко им ценимого, солидарность с которым в «литературной войне» против «Чисел» в значительной степени определяла позицию Набокова в эмиграции середины 1930-х, и его смерть (стихотворение «Поэты» было напечатано в 1939 году в одном номере «Современных записок» с подборкой некрологических материалов о Ходасевиче, в том числе эссе Сирина, хотя написано было несколько раньше). В этом контексте финальная фраза шишковского стихотворения «Поэты» (начальная фраза которого «свеча переходит» анаграммирует фамилию Ходасевича) – «молчанье зерна» – отсылает не столько к заглавию давнего сборника Ходасевича «Путем зерна» (1920), сколько к ее употреблению в известной полемике Адамовича и Ходасевича середины 1930-х о молодой эмигрантской литературе (Адамович писал, что ей необходимо «„умереть и воскреснуть“, как приносящему плод зерну» [53] Адамович Г. О литературе в эмиграции // Современные записки. 1932. Кн. 50. С. 333.
, и напоминал Ходасевичу, что когда-то тот помнил, что «на земле все живое идет „путем зерна“» [54] Адамович Г. Жизнь и «жизнь» // Последние новости. 1935. 4 апреля.
, на что Ходасевич возражал: то, что предлагает молодым поэтам Адамович – это «не путь зерна, а судьба в лучшем случае чернозема, перегноя, который сам ничем стать не может, но в котором „когда-нибудь“ могут прорасти чьи-то зерна» [55] Ходасевич В. Жалость и «жалость» // Возрождение. 1935. 11 апреля.
). Шишковская фраза «молчанье зерна» говорит о том, что зерно, упавшее в землю, не проросло; «числовская» тема «молчания» [56] О мотиве молчания у Адамовича см.: Коростелев О. «Без красок и почти без слов…» (поэзия Георгия Адамовича) // Адамович Г. Полное собрание стихотворений / Сост., подг. текста, вступ. статья, примеч. О. Коростелева. СПб.: Академический проект, 2005. С. 40–41 (Новая Библиотека поэта. Малая серия).
, «отчаяния» и «самых простых слов» распространилась, поверх прежних споров, на всю эмигрантскую поэзию. Стихотворение «Поэты» с его подчеркнуто простыми, как будто безыскусными рифмами («переходит – находит», «видеть – обидеть») вплоть до тавтологических («малолетних – летних»), разговорной интонацией («мы ведь, поди, вдохновение знали», «нам жить бы, казалось, и книгам расти»), декларациями простоты («а может быть проще») и «молчания» («молчанья любви… молчанья отчизны… молчанья зарницы, молчанья зерна») в полной мере использует эту поэтику, причем видимая простота сочетается здесь с большим поэтическим мастерством, оцененным Адамовичем: «В одном его [Шишкова] повторении насчет „красы, укоризны“ вечерней зари больше поэтического содержания, чем в десятках иных сборников» [57] Адамович Г. Литературные заметки: О «вечных спутниках» – Россия и советская литература – Василий Шишков // Последние новости. 1939. 22 сентября.
.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу