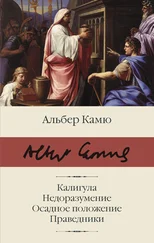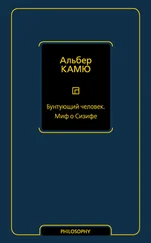Я уж не говорю здесь об искусстве пластических форм и красок, где безраздельно царит описание во всем его скромном великолепии. [21]Выразительность начинается там, где кончается мысль. Вся философия этих юношей с пустыми глазами, населяющих храмы и музеи, вложена в жесты. Для человека абсурда она более поучительна, чем целые библиотеки. На свой лад, но, в сущности, так же обстоит дело и с музыкой. Если какое-нибудь искусство свободно от назидательности, то прежде всего это музыка. Она слишком близка к математике, чтобы не позаимствовать у нее бесцельность. Эта игра духа с самим собой согласно условным и тщательно взвешенным правилам протекает в принадлежащем нам звуковом пространстве, вне которого звуковые колебания сопрягаются друг с другом уже в какой-то бесчеловечной вселенной. Нет ощущений чище. Подобрать тут примеры – дело слишком легкое. Человек абсурда признает своими эти формы и созвучия.
Но мне хотелось бы здесь поговорить о произведениях, в которых особенно велик соблазн объяснений, где иллюзия есть нечто само собой разумеющееся, а умозаключения почти неминуемы. Я имею в виду романное повествование. И задаюсь вопросом, может ли абсурд найти там себе надежное место.
Мыслить означает в первую очередь хотеть создать некий мир (или отграничить свой собственный мир, что то же самое). Это означает отправляться от основополагающего разрыва между человеком и его опытом, чтобы найти площадку для их взыскуемого согласия, отыскать мир, затянутый в одежды вразумительных причин и высвеченный подобиями, – тот мир, где дано преодолеть невыносимый разлад. Философ, даже если это Кант, выступает как творец. У него есть свои персонажи, свои символы и свое скрытое действие. Он находит свои развязки. И наоборот, главенство романа над поэзией и эссеистикой свидетельствует, как далеко вопреки всем внешним приметам продвинулась интеллектуализация искусства. Договоримся: речь пойдет только о самых великих книгах. О плодотворности и достоинствах жанра иной раз судят по его неудачным образцам. Нельзя из-за плохих романов забывать о ценности лучших. В них-то как раз и возникают целые миры. В романе есть своя логика, своя цепь рассуждений, свои интуитивные прозрения и свои постулаты. Ему присуща также своя потребность в ясности. [22]
Классическое противопоставление, о котором я говорил выше, еще менее правомерно в этом особом случае. Оно было оправдано в те времена, когда не составляло труда отделить философское учение от его создателя. Сегодня же, когда мысль больше не претендует на универсальность, когда лучшей историей философии была бы история ее раскаяний, мы знаем, что любое стоящее учение неотделимо от своего создателя. В известном смысле сама «Этика» есть не что иное, как долгая последовательная исповедь. Отвлеченная мысль наконец-то соединяется со своей телесной опорой. И точно так же романическая игра страстей и плоти все жестче подчиняется императивам того или иного видения мира. Сейчас больше не рассказывают «историй», а создают собственную вселенную. Великие романисты – это романисты-философы, то есть противоположность сочинителям тенденциозных повествований, иллюстрирующих какую-нибудь идею. Таковы среди многих других Бальзак, Сад, Мелвилл, Стендаль, Достоевский, Пруст, Мальро, Кафка.
Но как раз предпочтение, отданное ими письму в образах перед письмом в рассуждениях, показательно для общей им всем убежденности в том, что установка на объяснение бесполезна и урок сам собой вытекает из чувственно ощутимого внешнего обличья вещей. Все они рассматривают произведение одновременно и как конец, и как начало. Оно является завершением зачастую не высказанной прямо философии, ее зримым подтверждением и увенчанием. Но оно состоялось лишь благодаря этой подразумеваемой философии. И тем самым доказывает правоту одной из версий старинного утверждения о том, что размышления удаляют от действительности, когда их мало, и приближают к ней, когда их много. Не будучи в силах возвысить жизнь, мысль довольствуется тем, что ее изображает. Роман, о котором ведется речь, есть инструмент познания, относительного и одновременно неисчерпаемого – и тем похожего на любовь. Романическое творчество роднит с любовью и первоначальное восхищение сущим, и плодотворное вынашивание замысла.
* * *
По крайней мере таковы достоинства, которые я с самого начала признаю за этим творчеством. Но я признавал их и за теми князьями смиренной мысли, чье самоубийство я мог затем наблюдать. Что меня действительно занимает, так это постижение и описание той силы, которая толкает их на проторенную дорогу иллюзий. Поэтому все тот же метод послужит мне и здесь. То обстоятельство, что я им уже пользовался, позволит мне сделать мое рассуждение короче и сжато изложить самую суть, не задерживаясь на примерах. Я хочу знать, возможно ли, согласившись жить без зова свыше, точно так же без зова свыше работать и творить и какой путь ведет к подобной свободе. Я хочу избавить мой мир от призрачных теней и населить его истинами во плоти, чье присутствие отрицать невозможно. Я могу создавать абсурдное произведение, предпочесть творческую установку всем прочим установкам. Но для того чтобы абсурдная установка таковой и осталась, в ней должно быть сохранено сознание своей бесцельности. Так и с произведением. Если предписания абсурда в нем не соблюдены, если оно не свидетельствует о разладе и бунте, если в нем приносятся жертвы иллюзиям и оно пробуждает надежду, оно не бесцельно. И я не могу отделить от него самого себя. Моя жизнь может обрести в нем свой смысл, а это смехотворно. Оно перестает быть тем проявлением отрешенности и страсти, каким увенчивается великолепие и бесполезность человеческой жизни.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
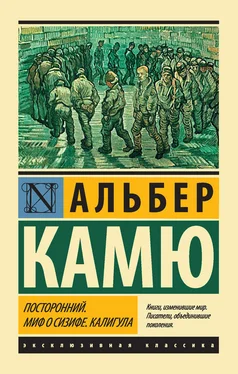
![Альбер Камю - Бунтующий человек. Недоразумение [сборник]](/books/31965/alber-kamyu-buntuyuchij-chelovek-nedorazumenie-sbor-thumb.webp)

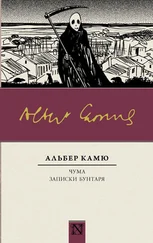
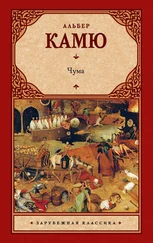



![Альбер Камю - Калигула. Недоразумение. Осадное положение. Праведники [litres]](/books/436698/alber-kamyu-kaligula-nedorazumenie-osadnoe-polozh-thumb.webp)