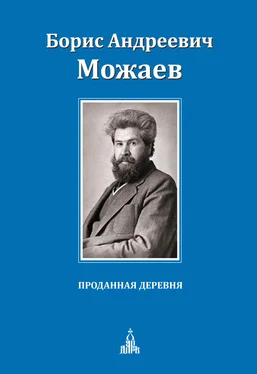Он спустился с высокого берега реки. Здесь было вроде потише, хоть ветер не свистел с такой заполошной силой. Однако спуск к воде был крутой, ноги скользили. И топать по косогору, да еще с пучками из прутьев, никак не возможно. Фомич опять достал топор и три раза стукнул по прибрежному льду. Но каждый раз появлялись трещины и просачивалась вода. Ступить на такой лед, идти по нему Фомич опять не решился. Пришлось вылезать на берег.
На высоких крутоярах ветер завывал в прутьях, хлопая полами полушубка, и так внезапно и сильно толкал в бок, что Фомич оступался и, как пьяный, шарахался в сторону. Он держался на значительном расстоянии от берега, боясь свалиться.
В низинах, под прикрытием кустарников, было потише, но сильно крутило; снег набивался в нос, в глаза и даже забивался за воротник, таял, и редкие холодные струйки ползли по спине. Сугробы Фомич переходил вброд, погружаясь в снег, как в воду, по пояс. Вскоре штаны его выше валенок намокли, потом задубенели от ветра и мороза и густо покрылись налипшим и промерзшим снегом. «Что твои бинты», – подумал Фомич невесело. Бедра были мокрые, поначалу мерзли и саднили, потом притерпелось. «Эх, теперь бы стеганые штаны, да потолще!.. – мечтал Фомич. – Я бы и на снегу переночевал. А в этих топай и паром грейся».
Он шел, пригнувшись, избочась, отворачивая от ветра лицо, тяжело и низко, почти до снега опустив руки. Пучки прутьев он привязал теперь за спину, перехватив спереди плечи и грудь веревками. Они глубоко врезались в полушубок, сдавливали грудь, резали плечи, отчего руки его немели и по пальцам бегали мурашки. Иногда он останавливался возле большого сугроба, опрокидывался в снег на спину и лежал, закрыв глаза, раскинув руки, до тех пор, пока снова не мог пошевелить затекшими и застывшими пальцами. Он вставал и шел до нового изнеможения, опять валился на спину, чтобы отдышаться и снова идти дальше.
Уже в сумерках подошел он к Кузякову яру. Здесь он решил распроститься с Прокошей, повернуть на Прудки и держаться прямо по ветру. Над яром дымились острые козырьки сугробов… Фомич слишком поздно смекнул, что берег под этими сугробами может быть обманчив. Он брел теперь, как утомленная лошадь, опустив голову и не глядя по сторонам. Поэтому поначалу удивился даже, когда качнулась перед глазами обнажившаяся черная кромка берега и огромный сугроб с гулом полетел в пропасть, увлекая за собой Фомича. Он стукнулся о что-то твердое ногой, перевернулся несколько раз и упал на спину. Минут пять он пролежал без движения, и ему даже приятно было оттого, как отходили ноющие натертые плечи и затекшие пальцы, только правая нога почему-то горела сильно, будто бы кто приложил к ней раскаленный кирпич. Наконец Фомич медленно опрокинулся на бок, потом попытался встать. Яркая, как молния, вспышка словно ослепила Фомича, и острая, пронзительная боль повалила его снова на спину. Он слегка застонал и потянулся рукой к правой ноге. Что с ней? Сломал или вывихнул? Но сквозь валенок трудно было что-либо прощупать, а пошевелить ступней он не мог, нога ниже колена не слушалась.
Фомич решил добираться ползком. Сначала он хотел было отвязать и бросить пучки прутьев, но как только подумал о том, что из них выйдет четыре превосходных санных кошевки, которые он загонит Пете Долгому по восемьдесят рублей каждую, то это намерение – бросить прутья – показалось ему невероятным.
«Прутья первосортные брошу… Триста двадцать рублей из кармана выкинуть? Это ж рехнуться надо, – думал Фомич. – Вон дядя Николаха колодник отсюда на себе возил возами. А я прутьев не донесу! Да что я, иль не Кузькиной породы? Ну ж нет, батеньки мои, не дождетесь от меня такой подачки…»
Фомич, сцепив от боли зубы, выполз на берег и так, на четвереньках, с пучками прутьев за спиной, двинулся по ветру. Вскоре он потерял свои сшитые из старой шинели рукавицы и загребал снег побелевшими голыми пальцами. Холода он теперь не чувствовал вовсе, и боли в ноге тоже не было. Он плохо соображал, куда ползет, в каком направлении. Но зато хорошо знал, что на спину теперь переворачиваться нельзя, боялся, что силы не хватит, чтобы снова встать на четвереньки. И на бок боялся лечь, чтобы не уснуть. Теперь он и отдыхал все в том же положении – на четвереньках, уткнувшись носом в снег. Кругом была ночь, бушевал снег, выл ветер, а он все полз и полз, каким-то необъяснимым волчьим чутьем выбирая именно то единственно верное направление, где в снежной коловерти потонули Прудки.
Читать дальше