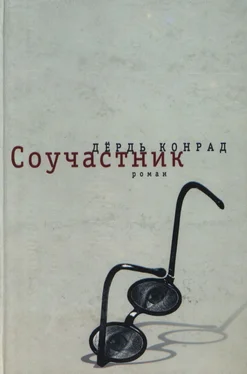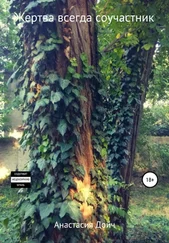Дед мой был в городке очень уважаемым евреем; ему принадлежала самая большая в комитате скобяная лавка: шесть витрин, десять человек прислуги, длинный торговый сводчатый зал, уходящий куда-то в глубину; торговое дело основано было его отцом еще в 1868 году, стены в лавке массивны, порядки незыблемы; на втором этаже – жилье, на первом – сама торговля, которую дед ведет с импозантной солидностью, сохранив все, что получил в наследство, и даже немного добавив к этому. Приказчики по утрам сидели на садовой скамейке, ждали, пока дед, гремя связкой ключей, ровно в восемь торопливо спустится по лестнице; распахивались железные двери, взлетали ставни, железная печка зимой еще хранила жар с вечера; приказчики надевали халаты и, вынув табакерки и скрутив цигарки, поджидали первого покупателя, чтобы хором приветствовать его. Они еще мальчиками работали здесь, рисуя на масляном полу восьмерки водяной струйкой, а к свадьбе получали в подарок от хозяина дом. Слово «нет» они если и произносили, то стыдливо прятали глаза: нельзя, чтобы покупатель уходил с пустыми руками, неудовлетворенный переступал обитый медью порог, над которым прибит был маленький костяной футляр с десятью заповедями на пергаменте. Цены на товар здесь были твердыми, но если в лавку забредал любитель поспорить насчет цены, на сцену выходил какой-нибудь тертый приказчик с хорошо подвешенным языком, который на уничижительные слова мог солидно ответить словами похвальными; самым изощренным мастерам поторговаться давали десятипроцентную скидку. Бывали и стеснительные спорщики в драных стоптанных башмаках; от названной цены у них на лице появлялось глубокое уныние. Приказчик обязан был догадаться, что проволоку для укрепления драночной кровли или новую косу к жатве эта супружеская пара не купиг потому, что у жены в кармане юбки завернуто в платок денег меньше, чем запрошено. В таких случаях приказчик вполголоса сообщал измененную цену. «Кто опасается, что разорится, если скостит бедняку цену, тот заслуживает разорения», – часто говаривал мой дед. Покупатель явился с жалобой: вон тот младший приказчик, вон, вон он, глаза прячет, обманул его с весом; дед багровеет: «Кто обвешивает другого, тот землю злом заражает». Если по улице мимо лавки, отводя взгляд, проходит должник, дед тактично скрывается за сводчатой дверью: «Нельзя напоминать человеку, что он пока не может мне долг отдать». Покупатель украл какую-то мелочь; приказчик спрашивает: звать полицию? Дед сердится: «Мало ему того, что он грех воровства взял на душу? Еще и позорить его перед всеми?» «За кражу наказание полагается», – говорит приказчик. «Он его уже получил», – твердо отвечает дед. «Ты, внучек, знаешь, я человек богатый, а перед другими это оправдать трудно, даже если я и не занимаюсь обманом. Почему я товар не продаю дешевле, чем покупаю? Во-первых, я бы, конечно, через год разорился; а главное, если честно: не хотел бы я, чтобы люди меня считали безмозглым». По улице строем идут солдаты, распе вают издевательскую песенку про евреев; дед не смотрит на них. «У этих людей обед сегодня был куда хуже, чем у нас с тобой. Им никто телячье жаркое не подавал. Богатые – жадны, бедняки – завистливы. Евреем здесь нелегко быть. Одних ненавидят за то, что они богаты, других за то, что они коммунисты». В девятнадцатом году, во время белого террора, деда моего выкинули из поезда; со сломанной ногой он лежал в снегу и не кричал.
8
Бабушка моя умерла от рака матки; на ее надгробье дед вызывающе поместил мужское, от первого лица, признание: «Ты была моим счастьем, моей гордостью». Когда заходила речь о покойной жене, он каждый раз закусывал нижнюю губу и отворачивался к окну. В бабушкину комнату после ее смерти никому не разрешалось входить. Исключением была только старая наша кухарка, Регина: каждую пятницу она вытирала там пыль; Регина была для бабушки живой записной книжкой, она и ухаживала за ней до последнего дня; самое страшное свое проклятие – «Чтоб тебя тихим дождиком замочило!» – она обрушивала на непутевую горничную, когда та, пугливо блестя глазами, заглядывала в дверную щель. В комнате, думаю, никаких тайн не было, только бабушкина толстая, с мужскую руку, темно-рыжая коса на столе.
Хотелось бы мне увидеть сейчас ту шестнадцатилетнюю девушку с поразительно тонкой, осиной талией и агрессивно развитой грудью; на писанном маслом, выдержанном в коричневых тонах портрете девушка эта словно бы смотрит, с трудом пряча улыбку, не на художника, а на себя в зеркале, и зрелище это отнюдь не повергает ее в отчаяние. Оттененное сине-стальным бархатным платьем с белым кружевным воротничком, лицо ее взирает на вас с выражением еле сдерживаемой, мерцающей в глазах дерзости. Пока дедушка, в пенсне на носу, дремал, между фруктами и черным кофе, в своем кресле, положив руки на львиные морды, украшающие подлокотники, я, разглядывая портрет, весьма одобрял мудрый выбор давнишних брачных посредников. Дедушка – на смотринах, в маленьком трансильванском городке. «Потчуйтесь нашими шанежками», – радушно обращается к нему барышня. Дедушка не знает местного диалекта – и растерянно улыбается, предпочитая есть глазами барышню: на столе – блины со сметаной, где тут эти шанежки. «И не пяльтесь на меня, вам говорят!» Но дедушка не может отвести от нее глаз, смотрит, не моргая. «Не перестанете пялиться – так гляну, что мозги перекосит!» – грозится юная бабушка. Даже это не помогает; тогда она убегает в горницу – и возвращается, надев на голову пустую тыкву с дырками-глазницами.
Читать дальше