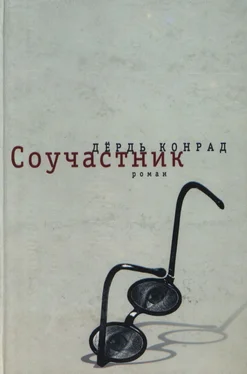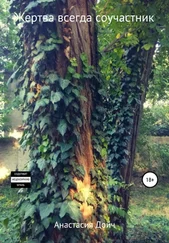7
Близ городка – еврейское кладбище; перед ним в утреннем дождике подрагивает чисто вымытая тополевая аллея; решетчатая калитка, оторванная от проржавевших петель, стоит, прислоненная к каменной ограде: вынести отсюда нечего, да и сюда внести – уже некого. Кладбище – не столько кладбище, сколько музей; пополнение, которого оно ждет, или ушло в небо дымом, или выкрестилось, или уехало. На протяжении либерального столетия еврейская община разрасталась; правовые основы для этого имелись, и состоятельные семьи покупали на кладбище целые участки, чтобы потом, после трудов праведных, почивать там сморщенными изюминками в рассыпчатом пятничном хлебе, лицом к востоку, в длинной, до пят, белой рубахе, с камешками, прижимающими веки. «Теперь ты свободен, и мы скорбим о тебе», – высекали на надгробном камне близкие и, прочитав заупокойный кадиш, возвращались к своим делам: торговым, домашним, – а душа усопшего пускай витает себе, где ей вздумается. Ни сторожа, ни раввина, ни могильщика, только густой птичий гам; наконец ко мне, словно хранитель музея, подходит коза с бакенбардами. Она опускает лоб с траурной звездой, я беру ее за теплые рога с поперечными бороздками, и она ведет меня к надгробью моей семьи. «Это они, верно?» И, не дожидаясь ответа, прямо над моим дедом, в высокой, до козьего живота, траве, откусывает сочную ромашку.
Да, это они; выдающаяся семья, выдающиеся надгробья. Словно на богослужении в первом ряду оплаченной ложи, сомкнутой черной шеренгой стоят, отшлифованные дождями и ветром, угольно-черные гранитные призмы; каждая обошлась дороже, чем небольшой дом для целой семьи; даже война не причинила этим надгробьям никакого ущерба, автоматные очереди отскакивали от них рикошетом. На камнях – двуязычные надписи: почетные граждане городка, высокомерные и щедрые, даже из-под земли пытаются разговаривать с потомством. В накрахмаленных воротничках, в галстуках бабочкой, с золотой часовой цепочкой, свисающей из жилетного кармана, с выражением достоинства, приправленного каплей надменной иронии, смотрят они на меня. На надгробиях у мужчин – две руки с раздвинутыми в середине пальцами, знак коханитов. Это их в церквях с куполами-луковицами приглашали к ковчегу с резными дверцами для выполнения почетной задачи: достать свиток рукописной торы в кедровом футляре и, держа ее на руках, как младенца, пропеть стихи святого благословения.
Когда молодцеватый барон в лавке моего деда просил снять ему со стеллажа, одну за другой, нарезные двустволки с инкрустациями – говорят, за какой-нибудь час он мог уложить на лесную подстилку несколько сотен перепелов и вальдшнепов, – дед мой, с лукавой улыбочкой между белыми закрученными усами и раздвоенной бородкой, с готовностью рассказывал ему об особенностях ружей. «Заходите еще, почту за честь, господин барон», – говорил он в дверях. Потом позвал меня в кабинет: «Кто-то из предков этого господина двести лет назад, в награду за то, что предал повстанцев Ракоци, получил титул барона. Но не стоит его презирать: он тоже человек. Вы же – семя Аароново, дворянскому древу вашему уже три тысячи лет; только ваши предки, верховные раввины, имели право входить в шатер со святыми реликвиями и касаться каменных скрижалей с Божьим откровением. Ты, дитя мое, тоже будешь раздавать благословение: пальцы твои не должны быть испачканы кровью, и в сад мертвых входить ты не должен. Раздающий благословение берет на себя грех народа, чтобы в святилище просить у Господа милости для согрешивших. Всевышнего ты можешь просить о прощении даже для убийцы, но никогда – с ненавистью в сердце, питаемой к ближнему своему».
И тут в лавку вошел Томка, городской золотарь; повозка его в ослиной упряжке с большой бочкой смердела на улице перед дверью. Дед быстрой, семенящей походкой тут же вышел из кабинета распорядиться, чтобы господина Томку обслужили вне очереди. Золотарь, в заячьей папахе на голове и с висящей на шее фляжкой для палинки, удостоился обхождения лучшего, чем барон, – только чтобы быстрее убрался вместе со шлейфом своего аромата. Мне жаль было Томку; когда он отпивал свою самоанестезирующую сливовицу, я видел, он бы охотно потянул время, чтобы, подобно мастеровым, которые пахли гораздо лучше, пофилософствовать с дедом о том о сем. «Господин Томка хотел бы еще побыть, пообщаться, а вы его вытолкали». Дед состроил покаянную физиономию: «Знаешь, сынок, мне нравится, как пахнут возчики на волах, как пахнут овчары, кузнецы, трубочисты; но вот запах профессии господина Томки я не люблю». «А раздающий благословение может сидеть на повозке золотаря?» Дед полистал в уме Талмуд и, склонив к плечу голову, твердо ответил: «Да». Целый день я провел рядом с Томкой; и сам он, и ослы его были добрые и грустные, хороша была и его сливовица. Рядом с его домом жил цыган, сборщик костей, под одной крышей со своей лошадью. Завидев нас, он тоже поморщился: «И зачем только барич водится с этим вонючим мадьяром? Я бы с ним и разговаривать не стал; пусть он два дня в колодце отмокает, все равно не стал бы, холера ему в селезенку». Но потом они очень даже душевно беседовали; цыган угощал нас печеночной колбасой, господин Томка сначала отнекивался, потому что колбаса была явно из дохлятины, но аромат у нее был дивный, и мы ели ее, по уши измазавшись в жире. Все-таки я настоящий маленький коханит, – говорил я себе, пьяно рыгая, по дороге домой.
Читать дальше