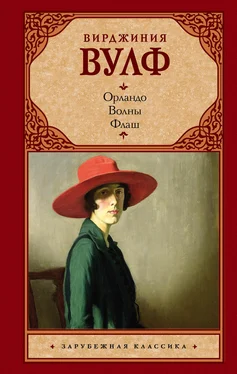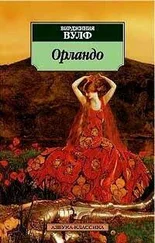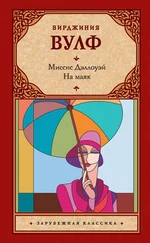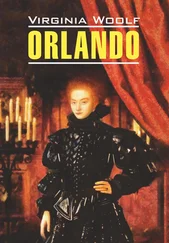Орландо, надо признаться, был несилен в куранте или вольте; скорей неловок; и несколько рассеян. Простые танцы родной страны, к которым был приучен с детства, он явственно предпочитал этим чужеземным выкрутасам. Он как раз сомкнул пятки, заключая очередной менуэт или кадриль, в шесть часов вечера седьмого января, когда скользнувшая из шатра московитов фигурка не то мальчика, не то девушки, ибо свободный камзол и шальвары по русской моде скрывали пол, привлекла его сугубое внимание. Эту, какого бы ни была она пола, особу, небольшого роста и редкой стройности, всю облекали устричного цвета бархаты, отороченные невиданным зеленоватым мехом. Но подробности затмевались ослепительной соблазнительностью особы. В мозгу Орландо сплетались и свивались самые дерзкие и странные метафоры. Он назвал ее дыней, ананасом, оливой, изумрудом, лисицей на снегу – и все за три секунды; он сам не знал, видел он ее, слышал, пробовал на вкус или все это сразу. (Ибо, хотя мы обязаны ни на мгновенье не прерываться в своем повествовании, нам придется, однако, походя пояснить, что все образы его в то время были чрезвычайно просты, под стать его же чувствам, и по большей части внушены простыми навыками детства. Но, будучи просты, чувства его были и на редкость сильны. И соответственно, о том, чтоб прерываться и анализировать причины этого явления, не может быть и речи.) … Дыня, изумруд, лисица на снегу – так бредил он, так ее называл. И когда мальчик, ибо это – увы! – был, конечно, мальчик – может ли женщина так бешено, так стремительно носиться на коньках, – чуть не на цыпочках промчался мимо, Орландо готов был рвать на себе волосы с досады, что особа оказалась одного с ним пола и про объятья нечего и думать. Но вот конькобежец снова приблизился. Ноги, руки, осанка были мальчишеские, но мог ли быть у мальчика этот рот; могла ли быть у мальчика эта грудь; могли ли быть у мальчика эти глаза, словно выуженные со дна морского? Наконец, присев в обворожительном, дивном реверансе перед королем, который, опираясь на придворного, шаркал мимо, она остановилась. Она была совсем рядом. Она была женщина. Орландо смотрел; дрожал; его бросало в жар; трясло в ознобе; его мучительно тянуло бежать сквозь летний зной; давить пятками желуди; обнять дубы и буки. На поверку же он задрал верхнюю губу над белыми мелкими зубами; ощерился, как для укуса; щелкнул челюстью, будто уже укусил. Леди Ефросинья повисла у него на локте.
Имя незнакомки, он выяснил, было княжна Маруся Станиловска Дагмар Наташа Лиана из рода Романовых, и она сопровождала не то отца своего, не то дядю, посла московитов, прибывшего на коронацию. О московитах известно было немногое. В своих огромных бородах, под меховыми шапками, они почти всегда молчали; пили какое-то темное пойло, то и дело его сплевывая на лед. По-английски они ни слова не понимали, правда, кое-кто из них мог изъясняться по-французски, но тогда он был почти не принят при английском дворе.
По этому случаю Орландо и познакомился с княжной. Они сидели друг против друга за накрытым под огромным навесом большим столом для избранных. Княжну усадили между двумя молодыми лордами. Один был Фрэнсис Вир, другой – юный граф Морэй. Потешно было наблюдать, как она то и дело ставила их в тупик, ибо, хоть оба были по-своему недурные малые, французским они владели ничуть не лучше нерожденного младенца. Когда в самом начале ужина княжна, оборотившись к соседу, с изяществом, пленявшим его сердце, говорила: «Je crois avoir fait la connaissance d’un gentilhomme qui vous était apparenté en Pologne l’eté dernier» [3] Я познакомилась прошлым летом в Польше с одним господином, кажется, вашим родственником ( фр .).
или: «La beauté des dames de la cour d’Angleterre me met dans le ravissement. On ne peut voir une dame plus gracieuse que votre reine, ni une coiffure plus belle que la sienne» [4] Красота дам при английском дворе меня приводит в восхищение. Нельзя и вообразить женщины, очаровательней вашей королевы, ни прически, более изящной, чем у нее ( фр .).
, – оба, лорд Фрэнсис и граф, выказывали величайшее недоуменье. Один настойчиво потчевал ее хреном, другой свистнул своего пса и заставил его выпрашивать мозговую косточку. Тут уж княжна не выдержала и расхохоталась, и Орландо, через кабаньи головы и чучела павлинов поймавший ее взгляд, расхохотался тоже. Он на нее смотрел, он хохотал, но вдруг смех замер на его губах. Кого он любил, спрашивал он себя, захваченный вихрем чувств, что он любил доныне? Старуху, он отвечал себе, – кожу да кости. Румяных потаскух без числа. Нудную монашку. Грубую, зубастую авантюристку. Сонный тюк кружев и жеманства. Прошедшая любовь была – угасший пепел, тлен, не более того. Радости ее – до жути пресны. Странно, как еще ему удавалось, извлекая их, удерживать зевоту. Да, пока он смотрел, кровь в нем плавилась; лед таял и тек вином по жилам; он слышал звон ручьев, пенье птиц; ключ бил сквозь зимние снега; мужество его очнулось; он сжимал в руке кинжал; звал на бой врага свирепей мавра и поляка; он нырял в пучину; опасность затаилась в расщелине, как роковой цветок; он увидел этот цветок; протянул руку… – словом, он одним духом источал один из самых пламенных своих сонетов, когда княжна адресовалась к нему:
Читать дальше