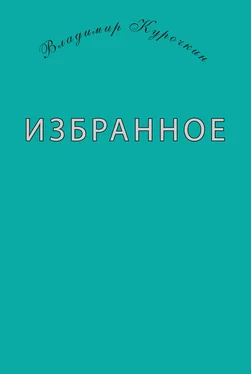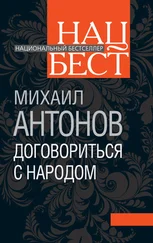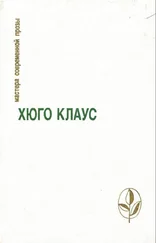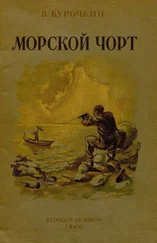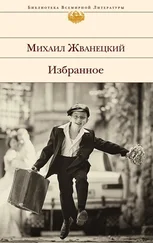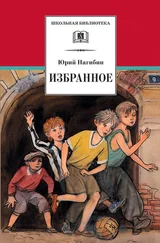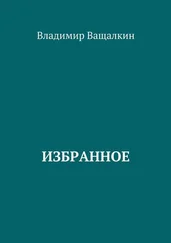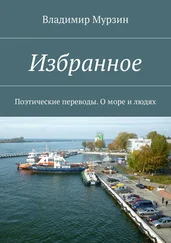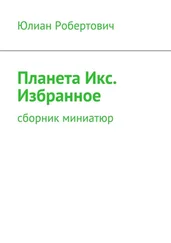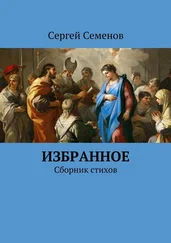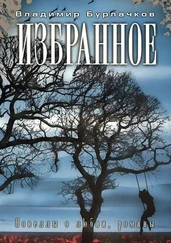– Откуда только ты свалился?.. Сидел бы на своем дворе… Время на тебя теряй тут, – сказал, переводя дыхание, Никитка.
– А тебе… снега общественного, наверно, жалко? Может, по Москве ходить запретишь? – сказал Васятка.
– Хоть ешь его. Не жалко… А вот суешься ты под ноги, это верно.
– Сам ты суешься… Порядка в движении не знаешь, вот что…
Они посмотрели друг на друга, еще раз стремясь разбудить прежние инстинкты, но что прошло, то уж прошло. Нужно было поступать как-то по-иному. Никитка встал:
– С какого года? Длинен ты больно… – сказал он.
– С пятнадцатого. А ты? – спросил и Васятка, вставая.
– Ровесники, – сказал Никитка и осмотрелся, – наделали мы делов…
– Заживет… Платок есть у тебя?
Они подняли с земли шапки и, стоя шагах в пяти друг от друга, начали платками смывать со щек подсохшую кровь. Они пока не решались подойти ближе и подсказать, где еще остались на лицах кровяные следы. Но все пошло на лад, когда они принялись за красные пятна на снегу. Они затаптывали их ногами и забрасывали горстями чистого снега. Потом взялись за лыжи. Одна из лыж Васятки торчала в сугробе. Он достал ее и увидел трещину у носка короткой детской лыжи.
– Только и осталось теперь… бросить, – сказал он.
– Это еще зачем. У отца денег, что ли, много? Ну-ка… – Никитка взял лыжину, посмотрел. – Раз плюнуть… Две латунных пластинки, шесть гвоздиков – и все в порядке.
– С трещиной хорошего хода не будет.
– Смотря у кого. Я так и на простых досках поеду – не догонишь.
– Ну, да…
– Увидишь… Пойдем, если хочешь, дома починю. В два счета.
Васятка посмотрел на бывшего противника и сказал то, что их обоих волновало и привлекало друг к другу:
– А ведь ничья у нас вышла?
– Ничья и есть… Но если бы я захотел…
– Если бы, да кабы, тогда… сам знаешь, что тогда.
Никитка взял его лыжу подмышку. Он задумался. И вдруг весь загорелся.
– А что, если бы мы вместе… против Сереги Туза, ну и против Носатика… Носатика знаешь? – сказал он, задыхаясь от волнения.
– Знаю.
– Как, взяли бы их в захват?
– Взяли бы.
– А если против Димки Степного, к ним в придачу?
– И опять взяли бы!
– Верно. Даже если и с Ивановских дворов Тимоху Голенастого еще к ним приспособить, то и тут не возьмут они нас, а?
– Ни за что не возьмут!.. А если еще спиной к стене нам встать, чтобы сзади не тронули, то и десять против нас не устоят.
– Верно… А если еще при случае в руку что положить…
Они восхищенно посмотрели друг на друга.
– Нам и всего квартала… не страшно тогда будет, – сказал Васятка, сам себе не веря.
– Да что ты квартал… мы бы… мы бы и весь город смогли бы сдержать…
– Москву?.. Всю Москву?..
– А что же. Испугался бы?..
– Я?.. Ни за что!.. Взяли бы и всю Москву!
– Ну, а если бы забор такой приладить, чтобы выскочить стукнуть и опять за него спрятаться… то и больше Москвы… пускай все города идут… – разошелся Никитка.
– Правильно. Против нас не устоят…
– Теперь нам только вместе и ходить надо.
– А ты станешь?
– Конечно, буду. Дурак только не согласится… да я давай тебе поклянусь на всю жизнь…
– На всю?.. Тогда я тоже поклянусь!
– Ладно! Вечером, у Старого Гаража. Знаешь?
– Знаю.
– Точка. Идем, лыжину исправлю.
И они отправились. Две маленькие фигурки. Две лиловых тени бежали впереди них. Багровое солнце светило им в спину. Но не грело. Оно все еще было, как говорилось в народе, под знаком войны.
2
Солнечные лучи били в затылок. Это было лучше, чем если бы они слепили глаза. Василий Томилин чувствовал, что силы его подходят к концу. А ведь оставались еще самые трудные километры. Он бежал попеременным шагом: то левая лыжа, то правая… И руки работали в таком же темпе. Только гораздо слабее. Главное было в ногах. В них он старался вложить всю свою силу. Руки только поддерживали: правая, левая… Его очень сильно намотал противник. Вон мелькает его спина – метрах в пятидесяти, впереди. Остальных участников они намного обогнали. Главное было в них самих. Они соперничали друг с другом. Жестоко. Вон его спина, упрямая. Слышно, как стучит пятка у его правой лыжи: хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. Это потому, что соперник не скользит, а припрыгивает. Идет почти за счет одних рук. Но как идет!
Василий удлинил шаг. Движение его стало еще более скользящим и вкрадчивым. В этом и заключался весь смысл попеременного хода – находить все большие и большие запасы скорости за счет удлинения шага. Сердце его колотилось вверх и вниз, вверх и вниз, такими же, как и шаги, длинными толчками.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу