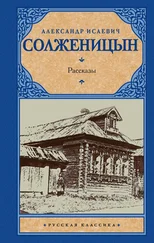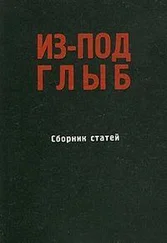Нержин – не Петька и не артист, ему и проситься нечего, чтобы посадили на поезд. Но у него есть уши и голова на плечах. Язык диспетчеров непохож на язык прежних станционных громкоговорений: «Граждане пассажиры! Поезд № 89 следует до Сталинграда и отправляется с третьего пути через пять минут». Нет, диспетчер однотонно и непонятно говорит в трубки:
– …Оставь полувагоны, бери десять-семьдесят шесть… Никифоров, пусти его на пятый… Внимание, Панфилово, пускаю тысяча сто двадцатый… Цистерны? успеем, он не пойдёт… Заправился? цепляй с седьмого… Никифоров, пусти его на второй… Проверили? пришлите старшего к дежурному… Слушает Филоново… Нет, не могу принять. Вот, отпущу на Себряково – прийму. Иванов, не ковыряйся, его срочно нужно…
И пока не пришёл сюда самый главный и мрачный, кто вышибет на время отсюда всех, и с мешками, и с младенцами, и командировочных в шинелях, Нержин успевает схватывать: Панфилово – это не фамилия, а станция, следующая к Сталинграду… Есть Себряково, а есть Серебряково? может, одно и то же, может, разное…{308} И туда пойдёт сейчас срочный поезд со второго пути. И Нержин выходит из диспетчерской с ленивым видом – так, чтоб другие не поняли, что он что-то понял, и не устремились бы за ним, перебивая у него теплушки.
Вот так действуют волки железнодорожных переездов первой военной зимы.
Но – и поезд поймал, и пустили тебя в теплушку, и печка тут накалена, и уже стучат колёса под вагоном – что ж, можно дозволить себе распариться и разложиться на полу спать? – упаси тебя Бог. Ещё одно правило скоро узнаешь на горьком опыте: упустил поезд – не горюй, а влез в поезд – не радуйся. В уютной теплушке, лёжа на грязном полу, не забывай, что сухой паёк у тебя – только на три дня, а командировка – только на восемь. На каждой остановке поднимайся и высматривай: не приглушили ли топку у паровоза? не отцепили ли его вовсе? И что делается на других путях?
И тогда ты поймёшь, что поезд, который считался срочным на прошлой станции, – на следующей может стать вовсе и не срочным. И тогда ты схватишь свой портфель и свой вещмешок – и выкатишься, выбросишься из приютливой теплушки на колкий снег и побежишь с расстёгнутой шинелью, скользя по льду, за отходящим поездом. На переходную площадку отходящей цистерны бросишь своё добро и повиснешь на поручнях сам.
Теперь тебе никто не мешает считать километровые столбы и глазеть на снежные поля. Никто, перешагивая тебя, не наступит тебе на руку. Но и никакая шинель с поддетым бушлатиком не спасёт тебя и пяти минут от яростной морозной бури, взвихриваемой ходом, а тем пуще головы не спасут лопухи будёновского шлема. И есть немного местечка поплясать озябшими ногами в кирзовых сапогах, припевая порядинскую присказку:
– Холодн о … холодн о … на ком платьице одно…
А и вдвое…
Да худое…
Всё одно… Всё одно…
К концу перегона тебя уже не радует ни стук колёс, ни мелькающие столбы и будки. И если в теплушке ты мечтал, как бы проехать хоть одну станцию без остановки, – то теперь ты боишься такого.
Шалишь! Сколько тут составов! Не проскочит. Остановились. А паровоз – с шипом мечет пар: не хочет стоять? пойдём дальше? А может, обманет. Слезай, братец, ищи лучше теплушку.
В одной даже дверь не отворили. В другой оттянули на щёлочку, посмотрели – захлопнули разом. А из третьей кричат:
– Ну, открывай, что ли. – А когда открыл: – Залезай, теплей будет.
Да после цистерновой площадки и такая теплушка – рай. А вот и поезд сразу тронул. Угадал, порядок!
– Садись, браток. Нет ли табачку?
В вагоне – ни одного из четырёх окнышек, всё забито, заткнуто. Темно. Свет – только от печки, но и она топится вяло – поддувало ли засорилось, тяги ли нет, уголь плохой мелкий. От такой печки тепло можно почувствовать, только если совсем вплотную. Нержин и примащивается к трём солдатам четвёртым в круг. На печке стоит, вздрагивая на сильных толчках, солдатский котелок. В котелке томится, увариваясь в своём соку, свёкла.
Все трое дрожащими руками закуривают самосад политрука Петрова. Курят молча, выпыхивая, причмокивая. Только самый разговорчивый:
– Аж закружилась.
Молчат. Не спрашивают, не рассказывают. Полтора месяца они вот так едут – о чём говорить? (Нержин вспоминает Джека Лондона: как у него зимовщики, оставшись с глазу на глаз в тесном одиночестве, молчат неделями и месяцами.) Лишь на остановках эти солдаты выходят поглядывать свои вагоны. Такой у них мёртвый, неспешный груз, что никто и не позарится. Как бы вот – продпункт застать открытым? – уже сколько миновали ночами. И вот станция. Один из троих бежит искать продпункт. Да надо и Нержину. Да и сгребя с собой портфель, мешок – прощай, ребята.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу


![Александр Солженицын - Русский вопрос на рубеже веков [сборник]](/books/90723/aleksandr-solzhenicyn-russkij-vopros-na-rubezhe-veko-thumb.webp)