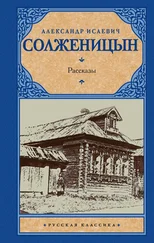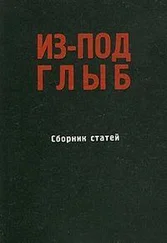– Дети, дети, чему вас в университетах учат?.. – кивнул на абонентскую телефонную книжку: – Ищи своё отделение. Кабинет начальника.
– Сейчас… вечер, – нерешительно возразил Глеб.
– Профессия такая, по ночам работают, – жмурился папа Довнер. – Ищи.
– Неужели вы и его знаете? – торопливо перелистывал книжку Глеб.
– Кого я не знаю, спроси! Все командные высоты должны быть в руках у пролетариата{233}. Сейчас могу тебе самолёт заказать на Дальний Восток, сделать директором ресторана, положить в санаторий беременных женщин – хочешь? Сколько? 05384?
Даже в той манере, как он, не отслонясь от спинки, белым пухлым пальцем властно набирал номер, никогда не упирая палец до конца, но всё же настолько доводя круг, чтобы номер набрался, и трубку держа в той же самой руке, – даже в этой мелочи сказывался человек, овладевший командными высотами полумиллионного города.
– Алло!.. Четвёртое отделение?.. Капитан Максимов? Это доктор Довнер… Здор о во, здорово… А ты как?.. Я тоже… Какое дельце?.. Ладно, через ВЭК [35] Врачебно-экспертная комиссия.
проведём, присылай, скажу заместителю… Сам? Сам на фронт ухожу… Слушай, у меня к тебе тоже один вопрос. Запиши-ка там фамилию… Нержин… Николай, Евгений, растяпа, ж… Да. Записал? Там на него твои хлопцы дело состряпали, но это ошибка… Ну да… Ладно, потом позвонишь… Сейчас проверишь? Ну проверь…
Поигрывая трубкой невдали от уха, Довнер смотрел на Глеба, но думал уже не о нём, о своих заботах. Глеб смотрел на подполковника Довнера и удивлялся: странно двойственно он воспринимал его. По всем теоретическим воззрениям ведь он перерождал советскую систему, замысленную такой совершенной, такой кристальной. Но всякий раз, когда Глеб видел его широкое улыбающееся лицо, быстрый взгляд, выражающий хоть и не возвышенный, но стремительный и всё охватывающий ум, Глеб косвенно угадывал те обезоруживающие взаимные сделки, всегда клонящиеся к выгоде частных лиц и не столько к выгоде обогащения, а к выгоде уклонения, избавления, освобождения, и удивлялся, почему Довнер никак не вытягивает на осудительный тип, а определённо симпатичен.
– Да… Нашёл? Уже на послезавтра к слушанию? Ну погаси, погаси… Будь здоров… Да, да, сделаем.
Довнер мягко положил трубку.
– Ты понял?
Нет! Так и до самого конца Нержин не понял и не ощутил опасности. Правильные указы против сеятелей паники, которые он так недавно приветствовал, не могли же коснуться его самого! Так легко миновало, как будто и не было: огромное колесо прокатилось, едва не размочив его в мокрое место, – а Глеб не мог даже понять, что оно есть и что оно – катится.
А оно – катилось. И уволокло шестидесятилетнего чудака-художника Германа Германовича Коске. Он был немец (сорок лет уже живший в Ростове) и как таковой в первые же дни войны был забран.
Об этом Глеб узнал от Ляли. Он встретил её днём неподалёку от городского сада, и они зашли туда посидеть. Белели вдоль аллей нагие античные статуи{234}, о которых в пяти инстанциях решали, не разврат ли это. Ещё и осени не было, а уже под безжалостным солнцем кой-где желтели листья.
Звенела музыка в саду
Таким невыразимым горем…
Радио уже стало разбавлять военные марши вальсами и фортепьянными отрывками, – война становилась бытом.
Глеб с болью смотрел на такое с детства знакомое Лялино лицо – теперь лицо тридцатилетней дородной женщины в соку, – но от этого самого покоя, удовлетворения лицо её потеряло прежнюю одухотворённость, прежнее изящество. Только когда от лёгкого ветра солнечные пятна колебались на её лице – Глебу проблескивала прежняя Ляля – та, которая рисовала миниатюры, аккомпанировала Герману Германовичу, – и та похудевшая, поблекшая, статуей захолонувшей скорби слушающая письмо, заученное наизусть перепуганным мальчиком.
Одиннадцать лет прошло с того письма и с того сыро-холодного вечера, когда долго после заката чёрные тучи над Темерником{235} хранили непонятно кровавую кайму. После Глеба никто никогда больше не видел Александра Джемелли и ничего о нём не узнал. Только строки его прощального крика любимой девушке навсегда врезались в память мальчика – и Глеб, не смея обвинять, в глубине смел не простить Ляле измены тому, кого она могла бы носить в сердце дольше. Больше года Ляля ходила гордая, замкнутая, молчаливая, потерявшая всю свою живость и весёлость, – и вдруг на тенистом Пушкинском бульваре, у окон музыкальной библиотеки, Глеб встретил её об руку с каким-то мясистомордым человеком, живот которого под белой рогожкой не по возрасту выпирал из ошкуры парусиновых брюк. Ляля шла размягчев, опираясь о руку спутника, потеряв свою несгибаемую ровность фигуры, эту невидимую внутреннюю костяную струну. Глебу было тогда только четырнадцать лет, в ту весну он ещё только смутно догадывался о губительном чувстве любви, – но испытал оскорбление за погибшего.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу


![Александр Солженицын - Русский вопрос на рубеже веков [сборник]](/books/90723/aleksandr-solzhenicyn-russkij-vopros-na-rubezhe-veko-thumb.webp)