Обычно так выглядит ужас ( Entsetzen ), парализующий человека, – ужас, который нельзя назвать ни трепетом ( Grauen ), ни страхом ( Angst ), ни боязнью ( Furcht ). Скорее, он чем-то близок к онемению ( Grausen ), испытываемому при виде лица Горгоны с распущенными волосами и искаженным в безмолвном крике ртом. Трепет ( Grauen ) испытывают не столько при виде, сколько в предчувствии чего-то зловещего, но именно поэтому он крепче сковывает человека. Боязнь ( Furcht ) далека от последнего предела и может вполне соседствовать с надеждой, а испуг ( Schreck ) – это как раз то, что испытывают, когда рвется верхний лист. Но потом, в смертельном падении, грохот литавр усиливается, разгораются зловещие огни – уже не как предостережение, но как подтверждение самого страшного, что как раз и вызывает ужас.
Догадываешься ли ты о том, что происходит в этом падении, которое, быть может, нам придется однажды совершить, в падении, которое отделяет момент, когда мы узнаем о гибели, и саму эту гибель?
Лейпциг
Я спал в одном старинном доме и был разбужен чередой странных звуков. Монотонный гул «дон, дон, дон» сразу же вселил в меня предельное беспокойство. Я спрыгнул с кровати и, ничего не понимая, словно спросонья, обежал вокруг стола. Схватился за скатерть – она соскользнула. Тут мне стало ясно: это не сон, все наяву. Страх усиливался, а «дон, дон» звучало все более быстро и угрожающе. Звук издавала встроенная в стену сигнализация, предупреждавшая об опасности. Я подбежал к окну, откуда был виден запущенный переулок, зажатый между стен колодца, а над ним – яркий зубчатый хвост кометы. Внизу стояла группа людей – мужчины в высоких остроконечных шляпах, женщины и девочки, одетые старомодно и неряшливо. Видимо, они тоже только что выбежали из своих домов на улицу и теперь возбужденно гудели. До меня донеслись слова: « Чужой снова в городе».
Обернувшись, я увидел на своей кровати человека. Я хотел было выпрыгнуть в окно, но ноги были как будто прикованы к полу. Фигура медленно поднялась и навела на меня взгляд. Глаза горели огнем, смотрели на меня все более пристально и расширялись, приобретая жуткое угрожающее выражение. Однако в тот самый момент, когда их величина и пламень стали невыносимы, они лопнули и рассыпались искрами, как падают пылающие угли сквозь колосник. Остались лишь черные, выжженные глазницы, как абсолютное ничто, скрытое за последней вуалью ужаса.
Берлин
Удобное издание «Тристрама Шенди» в картонной коробочке сопровождало меня во время сражения при Бапоме, было оно со мной и тогда, когда мы стояли у Фаврёй. Поскольку мы были вынуждены ждать на артиллерийских позициях с утра до послеполуденного времени, нас очень быстро одолела скука, хотя положение было вовсе не безопасным. Я начал листать книжку, и очень скоро мое спутанное, прерываемое вспышками огней чтение как некий таинственный побочный голос зазвучало в противоречивой гармонии с внешними событиями. Я несколько раз прерывался, и, когда мне удалось прочесть несколько глав, пришел долгожданный приказ атаковать; я убрал книжку и уже к заходу солнца лежал раненый.
В лазарете я снова подхватил нить повествования, как если бы все, что произошло в промежутке, было лишь сном или частью самой книги, чем-то вроде экскурса, обладающего особой духовной силой. Мне дали морфия, и чтение продолжалось то наяву, то в полусне, так что разные душевные состояния делали лишенный строгой геометрии текст с тысячами улочек и переулков еще более запутанным. Лихорадка, с которой я боролся при помощи бургундского и кодеина, обстрел и бомбежка позиций, откуда войска уже начали отступать, почти забыв о нашем существовании, лишь усугубляли путаницу. Поэтому все, что сохранилось у меня в памяти от тех дней, – это сентиментальные переживания вперемешку с диким возбуждением, после которого даже извержение вулкана оставило бы меня равнодушным, а бедный Йорик и простодушный дядя Тоби казались такими близкими персонажами, каких только можно себе представить.
При таких торжественных обстоятельствах я вступил в тайный орден шендистов, верность которому сохранил до сего дня.
Берлин
Сведенборг осуждает «духовную скупость», которая прячет под замком его грезы и прозрения.
Но как тогда быть с презрением духа к тем, кто разменивает себя на мелкую монету и пускает ее в оборот, как быть с его аристократическим уединением в волшебных дворцах Ариоста? Невыразимое теряет свою ценность, когда его выражают и сообщают другому: оно подобно золоту, в которое перед чеканкой добавляют медь. Кто пытается уловить свои сны на рассвете и видит, как они выскальзывают из сети его мыслей, тот похож на неаполитанского рыбака, от которого уходит стремительная стайка серебристых рыб, случайно выплывшая из глубин залива.
Читать дальше
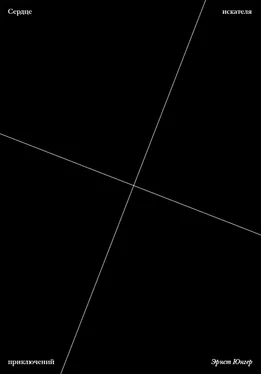









![Эрнст Юнгер - Стеклянные пчелы [litres]](/books/410842/ernst-yunger-steklyannye-pchely-litres-thumb.webp)

