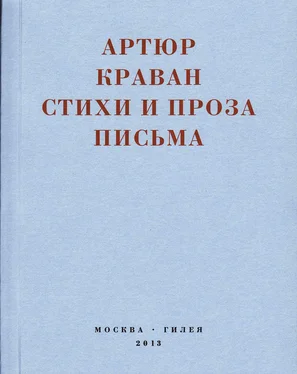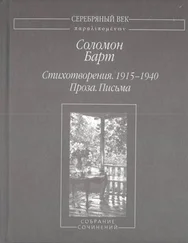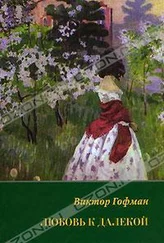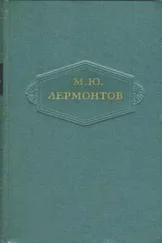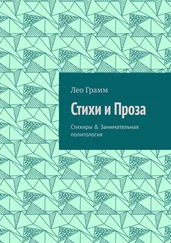«Его деятельность казалась вызывающей во времена повсеместной трусости. Большинство читателей упрекало его в вульгарности, но проницательных людей наивная грубость этого удивительного критика ничуть не шокировала» [29] Г. Тьессон в «Хронике Салона Независимых», апрель 1914 г., см.: Cravan A. Op. cit. P. 270.
.
Насмешка над обществом не имеет смысла, если она так и остаётся на плоскости бумаги: Кравану нужен объём, реакция, развитие событий. Именно поэтому он не просто пишет оскорбительную статью, а лично идёт продавать журнал своим «жертвам», затевает драку, оказывается в полицейском участке, отбивается от понятых, публикует исправленную версию статьи, вновь рассчитывая на скандал. Таким образом, литературная провокация Кравана неотделима от жизненной, старательно подготовленные метатекстуальные элементы подчинены сверхлитературному сценарию, и текст – это не только и не столько средство выражения протеста, сколько одна из составляющих перформанса, нового вида искусства.
«Он только снял жилет – и Искусство убежало прочь» [30] Подзаголовок из статьи о выступлении Кравана на выставке Независимых, напечатанной в нью-йоркской газете “The Sun” 20 апреля 1917 г.
Что и говорить, тогдашняя пресса была невысокого мнения о деятельности Кравана. Искусство ради искусства, очевидно, не его случай. И сам он открыто заявляет, что ему «плевать на это Искусство!». На то самое искусство, которое он называет «кокетством перед зеркалом», но которым почему-то повсеместно принято восхищаться:
«Эта выставка [31] Имеется в виду Салон Независимых 1912 г.
вызывает у меня отвращение, из 7000 полотен посмотреть стоит в лучшем случае на четыре. Я пробыл там 10 минут – как раз столько времени мне потребовалось, чтобы пройти выставку насквозь и усесться в буфете, разглядывая физиономии всех этих неудачников и неудачниц, облачённых в кричащие платья и костюмы» [32] Из письма Кравана матери (1912), см.: Cravan A. Op. cit. P. 145.
.
Краван считает, что когда настоящий художник заканчивает шедевр, он должен думать: «Я чуть не лопнул со смеху!», он должен родиться «скотом» и «уметь им оставаться», и самое главное – художник обязан сделать искусством свою жизнь. В этом смысле жизнь Кравана – лучшая иллюстрация его философской позиции, междисциплинарное художественное произведение, авангардная демонстрация. Вызывающие публичные выступления, лекции об искусстве, совмещённые с боксом, выпуск и продажа журнала, провокационные выходки, чрезмерная самореклама, драки и дезертирство – все его авантюры пересказывались возмущённым шёпотом, истории наполнялись новыми подробностями, сливаясь в один opus magnum – саму личность Артюра Кравана, его «я», существующее в коллективном сознании:
«Артюр Краван был уникальной и будоражащей воображение личностью, непреднамеренно заключающей в себе все мыслимые элементы внезапности, необходимые для того способа самовыражения, который тогда ещё никто не называл дада», – поясняет Габриэль Бюффе-Пикабиа [33] См.: Buffet-Picabia G. Aires abstraites. P. 92.
.
Именно поэтому отделить Кравана литературного от Кравана реального, автора от персонажа, а поэта от боксёра (а также от критика, конферансье, погонщика мулов, матроса…) невозможно. В попытках выровнять его биографию и обосновать его творчество литераторы и документалисты сталкиваются с нескончаемыми гипотезами и знаками вопроса – чего, собственно, Краван и добивался. Его современники и те с трудом могли сказать о Краване что-либо однозначное, а Мина Лой, написавшая о нём книгу, лишь пожимала плечами:
«Как необычайно прост он был в своей неординарности; чтобы это объяснить, понадобится написать аналитический трактат. Его жизнь была нереалистичной или даже сюрреалистичной в том смысле, что он никогда не был тем, кем он рисковал стать» [34] Слова Мины Лой приведены в «Воспоминаниях о художественной галерее» Ж. Леви, цитата даётся по изд.: Cravan A. Op. cit. P. 230.
.
Даже его смерть выглядит как часть театральной постановки. Он считал, что всем поэтам следует умереть к тридцати годам, дабы избежать ничтожного существования в дальнейшем, и, словно в подтверждение своих слов, он бесследно исчезает, достигнув этого возраста. Это, должно быть, шутка, осуществление столь разрекламированного когда-то псевдосамоубийства или продолжение состряпанной Краваном сказки об ожившем (или никогда не умиравшем?) Оскаре Уайльде. В черновиках Блеза Сандрара, общавшегося с Краваном долгое время, есть такая пророческая запись, датированная 1913–1914 годами:
Читать дальше