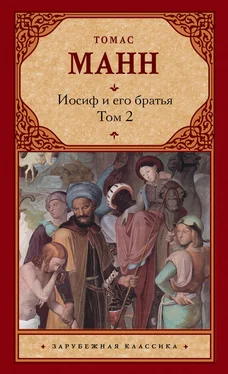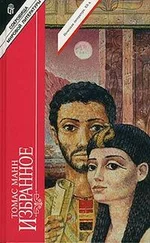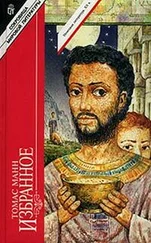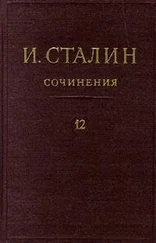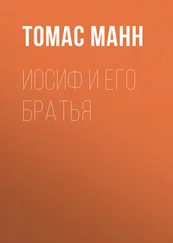– Госпожа, бога ради, зачем здесь твое лицо, и что ты говоришь в лихорадке от раны, – опомнись, прошу тебя, ты забыла, кто ты и кто я! Прежде всего – покой твой открыт, подумай об этом; вдруг нас увидит кто-нибудь, карлик ли, полномерный ли домочадец, и подглядит, где находится твоя голова, – прости, я не могу этого допустить, я должен, с твоего позволения, убрать свою руку и позаботиться, чтобы никто снаружи…
Он сделал, как сказал. Но она тоже стремительно поднялась с места, где его руки уже не было, и, выпрямившись, неожиданно полнозвучным голосом, со сверкающими глазами, прокричала слова, способные показать ему, с кем он имеет дело и чего можно ждать от той, которая только что сокрушенно молила его, а теперь, как львица, занесла лапу и даже перестала вдруг лепетать; при желании, стерпев боль, она могла заставить свой язык повиноваться себе, и поэтому она прокричала исступленно-отчетливо:
– Пусть будет открыта палата, пусть смотрит весь мир на меня и на тебя, которого я люблю! Ты боишься? Так знай же, что я не боюсь ни богов, ни карликов, ни людей, не боюсь, что они увидят меня с тобой, что они застанут нас вместе! Пусть придут, пусть явятся скопом и смотрят на нас! Как ветошь, брошу я к их ногам свою застенчивость и свою стыдливость, ибо для меня они и впрямь жалкая ветошь по сравнению с моей любовью к тебе, с этой самозабвенной мукой моей души! Мне ли страшиться? В моей любви страшна я одна! Я Изида, и кто на нас будет смотреть, к тому я отвернусь от тебя и брошу на него такой страшный взгляд, что он погибнет на месте!
Вот что с яростью львицы вскричала Мут, не обращая никакого внимания на свою рану и на боль, которую у нее вызывало каждое с усилием произносимое слово. А он задернул занавески между колоннами и сказал:
– Позволь мне принять меры осторожности ради тебя, ибо мне дано предвидеть, что́ сталось бы, если бы нас выследили, и то, что ты хочешь бросить миру, для меня свято. А мир этого не стоит, он не стоит даже того, чтобы умереть от гнева твоего взгляда.
Но когда он, задернув занавески, снова подошел к ней в сумраке комнаты, она была уже не львицей, а снова картавым ребенком, ребенком, однако, как змея хитрым, и, извращая смысл его поступка, пролепетала самым обворожительным голосом:
– Ты затем запер нас, злодей, и укрыл тенью от мира, чтобы он уже не мог защитить меня от твоей недоброты? Ах, Озарсиф, какой ты недобрый, слов нет, чтобы сказать, что́ ты со мной сделал, ты изменил мое тело и мою душу настолько, что я уже и сама перестала себя узнавать! Что бы сказала твоя мать, узнай она, что делаешь ты с людьми и до чего ты доводишь их, если они перестают себя узнавать? Неужели и мой сын был бы таким прекрасным и таким злым, и должна ли я видеть его в тебе, моего злого, моего прекрасного сына, солнечного мальчика, которого я родила и который в полдень прижимается головой и ногами к голове и ногам собственной матери, чтобы с нею породить себя снова? Озарсиф, любишь ли ты меня и на небе, и на земле? Описала ли я и твою душу, написав записку, которую послала тебе, и содрогнулся ли ты, когда ее читал, как содрогалась от бесконечного восторга и от бесконечного стыда я, когда писала ее? Когда ты обольщаешь меня своими устами, называя меня повелительницей твоей головы и твоего сердца, – как это понимать? Ты говоришь это, потому что так полагается, или в душевном пылу? Признайся мне в сумраке! После стольких ночей мучительных сомнений, когда я одиноко лежала без тебя, а моя кровь беспомощно взывала к тебе, ты должен спасти меня, мое спасенье, ты должен избавить меня от муки, признавшись, что ты для того говорил языком красивой лжи, чтобы тем самым сказать мне правду, сказать, что ты любишь меня!
Иосиф. Благородная госпожа, все не так… Нет, все так, как ты говоришь, только пощади себя, если ты действительно милостива ко мне, пощади себя и меня, если я смею просить, ибо у меня разрывается сердце, когда ты заставляешь больной свой язык говорить, вместо того чтобы успокоить его бальзамом, – и говорить такие жестокие слова! Как же мне не любить тебя, тебя, мою госпожу? Коленопреклоненно люблю я тебя и молю тебя на коленях не быть жестокой, не различать в моей любви к тебе смирения и пылкости, кротости и сладостности, а милостиво предоставить самим себе ее слагаемые, образующие нежное и драгоценное целое, которое нельзя расчленять и расщеплять в исследовательской жестокости, ибо его жаль! Нет, погоди, дай мне сказать тебе… Если ты так любишь слушать, когда я рассказываю тебе о том или ином деле, соблаговоли выслушать меня и по этому поводу! Хороший раб любит своего господина, если тот хоть сколько-нибудь благороден, это в порядке вещей. Но если имя господина превращается в имя госпожи и милой женщины, то такая перемена придает ему прелесть и очарованье, и тогда любовь раба тоже проникается этой прелестью и становится тем сладостным смирением, той благоговейной нежностью, которые и зовутся «пылом», и горе тому жестокому, кто оскорбит ее дотошным разбором и недоброжелательным взглядом – да будет он проклят! Если я называю тебя повелительницей моей головы и моего сердца, то, разумеется, потому, что этого требует обычай, так полагается, таков порядок. Но приятен ли мне такой порядок, счастливы ли моя голова и мое сердце, что так полагается, – это дело тонкое, об этом молчат, это тайна. Милостиво ли и мудро ли ты поступаешь, нескромно спрашивая меня, какой смысл вкладываю я в эти слова, и оставляя мне только выбор между ложью и грехом при ответе? Это неверный и жестокий выбор, я отвергаю его! Я прошу тебя на коленях явить доброту, оказать милость жизни сердца!
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу