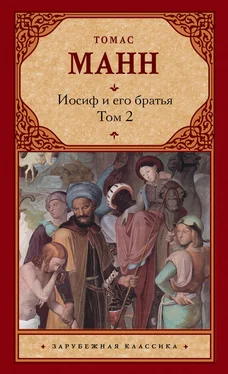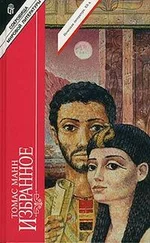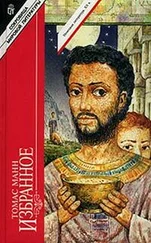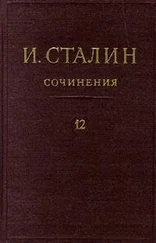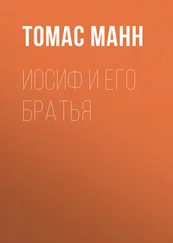Вот каким соблазнам был подвержен его к тому же не совсем уже ясный рассудок. Добро и зло вполне готовы были смешаться в его сознании; бывали мгновения, когда его соблазняло истолковать зло как добро, и хотя иероглиф после «лежать» показывал Иосифу, из какого царства шло это искушение и что поддаться ему значило нанести непростительную обиду тому, кто был не мертвым, как мумия, богом ничего не сулящей вечности, а богом будущего, – тем не менее у Иосифа были все основания не доверять силе семи причин и ходу будущих часов праздника и не обращать вниманья на маленького своего друга, который шепотом заклинал его не ходить к госпоже, не принимать больше записок у злого куманька и бояться огненного быка, чье дыханье с минуты на минуту испепелит прекрасную ниву.
Бесспорно, это было легче сказать, чем сделать, – избегать госпожи, ибо она была госпожа, и если она звала его, он обязан был явиться на зов. Но как радуется человек самой возможности выбрать зло, как упивается он своей свободой выбора, как любит играть с огнем. Он играет с ним не то из самоуверенной храбрости, дерзающей схватить этого быка за рога, не то из легкомыслия и ради тайного удовольствия, – кто разберет!
Больной язык (Игра и проигрыш)
Настала ночь на третьем году, когда Мут-эм-энет, жена Потифара, прикусила себе язык, потому что ей неудержимо хотелось сказать молодому управляющему почетного своего супруга то самое, что она уже написала ему в виде ребуса, а в то же время, из гордости и стыда, она запрещала своему языку так говорить с ним и предлагать этому рабу свою кровь, чтобы он успокоил ее. Такое уж противоречие заключала в себе ее роль госпожи, что, с одной стороны, ей было страшно так говорить с ним и предложить ему свою плоть и кровь в обмен на его плоть и его кровь, а с другой стороны, ей положено было это сделать как по-мужски домогающейся и, так сказать, бородатой стороне в любви. Поэтому она ночью прикусила себе язык сверху и снизу, так что почти даже прокусила его, и на следующий день, из-за болезненной этой помехи, лепетала, как малое дитя.
В течение нескольких дней после передачи записки она не хотела видеть Иосифа и не показывалась ему на глаза, потому что боялась взглянуть ему в глаза после того, как письменно потребовала его поражения. Но именно лишив себя его близости, она созрела для того, чтобы собственными устами сказать ему то, что было уже сказано волшебными знаками; потребность видеть его рядом с собой обернулась потребностью сказать ему те слова, которых он, раб в любви, не смел говорить, так что узнать, выражают ли они его заветные мысли, она, госпожа, могла не иначе, как сама сказав ему эти слова и предложив свою плоть и свою кровь в страстной надежде, что это соответствует сокровенным его желаниям и что она выскажет его мысли. Ее роль госпожи обрекала ее на бесстыдство; но за него она ночью заранее себя наказала, прикусивши язык, так что теперь она могла все-таки высказаться, насколько это позволяло ее наказание, то есть лепеча, как ребенок, что́ было даже удобно, ибо придавало предельно откровенным словам какую-то беспомощность и невинность, делая грубое неожиданно трогательным.
Вызвав через Дуду Иосифа для хозяйственной беседы и последующей игры в шашки, она приняла его в салоне Атума среди дня, когда управляющий закончил службу чтеца в Потифаровом зале, через час после трапезы. Она вышла к нему из комнаты, где спала, и когда она подошла к нему, он, пожалуй, впервые, или впервые сознательно, сделал то наблюденье, которое и мы приберегли для этого часа, – а именно – что она очень изменилась за время своей одержимости, а значит, как естественно заключить, из-за нее.
Это была своеобразная перемена, определяя и описывая которую рискуешь поразить читателя и остаться непонятым и которая дала Иосифу, когда он заметил ее, много пищи для удивления и для углубленных раздумий. Ведь жизнь глубока не только в духе, о нет, и в плоти тоже. Не то чтобы Мут постарела за это время; этому не дала случиться любовь. Стала ли она красивее? И да и нет. Скорее – нет. Даже определенно нет, – если понимать красоту как некое счастливое совершенство, вызывающее чистое восхищенье, как великолепный образ, заключить который в объятья значило бы, наверно, изведать небесное счастье, но который совсем не располагает к этому и скорей даже уклоняется от подобной мысли, потому что взывает к ясному уму, к глазу, а не к губам, не к руке – если он вообще к чему-либо на свете взывает. При всей своей чувственной полноте красота в этом случае сохраняет какую-то отвлеченность и духовность: она утверждает самостоятельность идеи, преимущество идеи перед явлением; не она продукт и орудие своего пола, а, наоборот, пол – ее материал и средство. Женская красота может быть красотой, воплощенной в женственности, женственностью как средством выражения красоты. А что, если соотношение духа и материи изменится таким образом, что правильнее будет говорить уже не о женской красоте, а о красивой женственности, потому что первопричиной и главной идеей станет женственность, а красота будет только ее атрибутом? Что, спрашивается, если пол отнесется к красоте как к своему материалу и в ней воплотится, а красота, следовательно, будет служить и казаться выражением женственности?.. Ясно, что это даст совершенно другой род красоты, чем описанный выше, – сомнительный, жутковатый, подчас даже близкий к уродству, но при этом обладающий притягательностью и обаянием красоты благодаря полу, который водворяется на ее место, заменяет ее и присваивает себе ее имя. Стало быть, это уже не духовно почтенная красота, открывающаяся в женственности, а красота, в которой открывается женственность, проявление пола, ведьмовская красота.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу