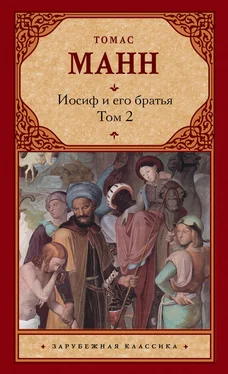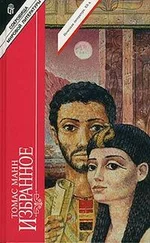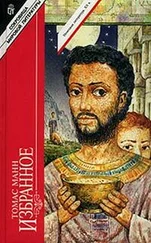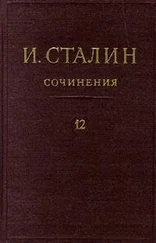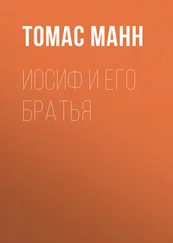«Я храню чистоту» – услыхал однажды в саду Адониса маленький Вениамин из уст своего восторженно любимого брата, имевшего в виду и чистоту своего лица, то есть отсутствие бороды, которая разрушила бы особую красоту его семнадцати лет, и свое отношение к миру, заключавшееся и тогда и теперь в воздержанности, не имеющей ничего общего с бесчувственностью. Его воздержанность была не чем иным, как осторожностью, благочестием, религиозной деликатностью, в которых то ужасное насилие, когда были разорваны его венец и его покрывало, могло его только особенно утвердить; и надо сказать, что связанное с этой воздержанностью высокомерие совершенно лишало ее обездоленной мрачности. Речь идет не о печальном и тягостном умерщвлении плоти, в тощем образе которого целомудрие почти неизбежно видится ныне. Что существует веселое, даже шаловливое целомудрие, это и ныне в конечном счете придется признать; и если уж какая-то светлая и смелая духовность расположила Иосифа к такому целомудрию, то блаженство благочестивого невестинского самомнения сделало решительно все, чтобы максимально облегчить ему то, что дается другим с великим трудом. В разговоре с почетной наложницей Ме-эн-Уазехт госпожа, сетуя, упомянула о насмешливости, которая почудилась ей в глазах молодого управляющего, о насмешке над печальными узами страсти, этого позорного для занемогшей недуга. То было довольно верное наблюдение; действительно, из трех зверей, охранявших, по сведениям Иосифа, сад птичницы, «Стыда», «Вины» и «Глумливого Смеха», последний был ему наиболее знаком – но не как пострадавшему, не как жертве этого зверя, что́, собственно, и имелось в виду, нет, глумился и смеялся он сам, Иосиф, и ничего, кроме смеха, не находили в его глазах женщины, глядевшие на него с крыш и со стен. Такое отношение к сфере влюбленного сладострастия бесспорно встречается; оно создается сознанием высшей связанности, избранности в любви. А если кто сочтет нечеловечным, преступно-заносчивым видеть чужую страсть в смешном свете, то пусть он знает, что наша повесть приближается к тому часу, когда Иосифу стало совсем не до смеха, и что вторая катастрофа его жизни, новая его гибель, была вызвана именно той силой, которой он, по юношеской своей гордыне, считал ненужным отдавать дань.
Такова была первая причина отказа Иосифа утолить страсть жены Потифара: он был обручен с богом, он проявлял мудрую деликатность, он помнил о той особой боли, которую причиняет предательство одиноким. Второй мотив был тесно связан с первым, он был только его отражением, его, так сказать, повторением в земной, в житейской форме: это была верность, закрепленная союзом с ушедшим на запад Монт-кау, верность Потифару, нежному господину, самому высокому в ближайшем кругу.
Отождествление, озорное смешение безотносительно высшего со сравнительно, то есть для данного места, самым высоким, происходившее в голове Аврамова отпрыска, несомненно, покажется ныне нелепым и даже грубым. Тем не менее с ним придется примириться, чтобы понять, что́ делалось в этой ранней (хотя, с другой стороны, и поздней) голове, которая предавалась своим мыслям с таким же рассудительным достоинством и спокойствием, с такой же естественностью, как мы своим. А тучный, но благородный сановник Солнца и меланхолически себялюбивый названый супруг Мут представлялся мечтательной этой голове низшим соответствием, телесным повторением неженатого и бездетного, одинокого и ревнивого бога отцов, и хранить ему, Потифару, бережную человеческую верность Иосиф, в силу этого ребяческого смешения и не без соответствующих корыстных мыслей, собирался самым решительным образом. Если прибавить к этому священный обет, который он дал Монт-кау в смертный его час, – изо всех сил поддерживать и никогда не посрамлять нежное достоинство господина, – то станет еще понятнее, что почти уже не умалчиваемые желания бедной Мут должны были показаться ему змеиным искушением изведать добро и зло и повторить глупость Адама… Это было второе.
В качестве третьего достаточно сказать, что пробужденная его мужественность не желала превращаться в пассивную женственность под натиском мужских домогательств госпожи, что она хотела быть не целью, а стрелой страсти, – и все станет ясно. И тут сразу же напрашивается четвертое, так как оно тоже касается гордости, только гордости духовной.
Иосифа страшило то, что олицетворяла в его глазах египтянка Мут и с чем он, гордясь наследственной заповедью чистоты, остерегался смешать свою кровь: старость страны, куда его продали, длительность, которая без обетования, в беспутной неизменности, глядела в дикое, мертвое, ничего не сулящее будущее, делая вид, что сейчас она поднимет лапу и прижмет к груди задумчиво стоящего перед ней сына обета, чтобы он назвал ей свое имя, какого бы пола она ни была. Ибо безнадежная дряхлость была одновременно похотью, жадной до молодой крови, а тем более молодой не только годами, но особенно своей избранностью для будущего. Об этом преимуществе Иосиф, в сущности, никогда не забывал, с тех пор как он, никто и ничто, жалкий мальчишка-раб, прибыл в Египет, и при всей своей прирожденной открытости миру, проявленной им среди детей ила, у которых он положил себе далеко пойти, Иосиф всегда сохранял некую отчужденность, некую сокровенную сдержанность, прекрасно зная, что, по существу, он не должен быть запанибрата с запретным укладом, и прекрасно в общем-то чувствуя, какого он духа дитя и какого отца сын.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу