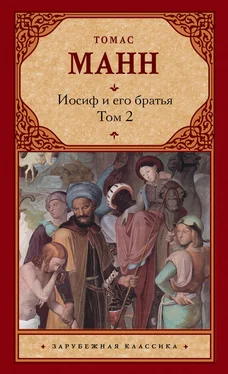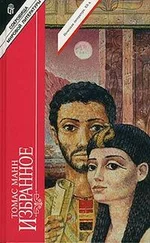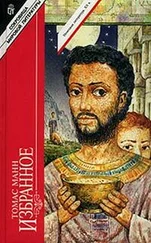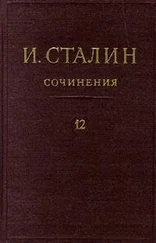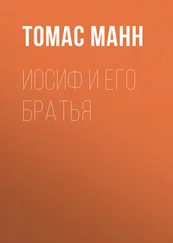Незачем говорить, что о целомудрии не может быть и речи там, где нет дееспособной свободы, то есть в случае номинальных полководцев и увечных служителей Солнца. Что Иосиф был неущербленный, живой человек, – это предполагается само собой. Да мы и знаем, кстати, что в более зрелые годы он, при содействии царя, вступил в брак с египтянкой и что от этого брака у него было двое детей, два мальчика – Ефрем и Манассия (они еще появятся в свое время). Следовательно, в годы зрелости он уже не был целомудрен, целомудрен он был только в юности, идея которой особым образом сливалась у него с идеей целомудрия. Ясно, что девственность (ведь о ней можно говорить и применительно к молодым мужчинам) Иосиф сохранял только до тех пор, покуда утрата ее была отмечена печатью запретности, печатью искушения, падения. Позднее, когда эта печать с нее, так сказать, спала, он беззаботно утратил девственность, и следовательно, приведенный нами классический эпитет подходил к нему не всю его жизнь, а только временно.
Да не подумают также, что юношеское его целомудрие было целомудрием деревенщины, чурбана в делах любовных – то есть следствием неуклюжести, простоватости, с которой предприимчивый темперамент обычно и связывает представление о целомудрии. Предположение, будто в пикантной области беспокойный любимец Иакова был бесчувственным простофилей, не вяжется с той картиной, что первой, в самом начале, предстала нашему духовному взору, картиной, которую мы наблюдали тревожными глазами отца, когда семнадцатилетний Иосиф сидел у колодца и, охорашиваясь, заигрывал с прекрасной Луной. Знаменитое его целомудрие было отнюдь не следствием его обделенности, наоборот, оно основывалось на том, что мир и его, Иосифа, взаимоотношения с ним были пронизаны духом любви, на всевлюбленности, которая тем более заслуживала столь емкого наименования, что не останавливалась у границ земного, а каким-то привкусом, какой-то нежной примесью, какой-то неуловимой, скрытой подоплекой входила в любую, в том числе и в самую трепетную, самую священную сферу. И из того, что она туда входила, из этого-то и вытекало его целомудрие.
На ранних порах мы занимались явлением живой ревности бога в связи с теми недвусмысленно страстными преследованиями, которым, несмотря на успешное взаимоосвящение в союзе с человеческим духом, демон пустыни все еще подвергал объекты идолопоклонства и необузданных в своей пышности чувств, что́ на собственном опыте испытала Рахиль. Тогда мы заранее сказали: ее отпрыск, Иосиф, поймет, что бог есть бог живой, даже лучше и будет приноравливаться к этой истине податливей, чем Иаков, его целиком подвластный чувствам родитель. Так вот, целомудрие Иосифа было прежде всего выражением этого понимания, этой оглядки. Он, конечно, догадывался, что его страдания и его смерть – какие бы другие, далекие цели с ними ни связывались – были карой за гордое чувство Иакова, это недопустимое подражание божественной избирательности, что они были величайшим актом ревности, направленным против бедного старика. В этом смысле наказанье Иосифа относилось только к отцу и было не чем иным, как продолжением наказанья Рахили, которую Иаков не переставал любить, – любить в сыне. Но ревность имеет двойной смысл и выразиться может двояко. Можно испытывать ревность к тому или иному лицу по той причине, что человек, на всю полноту чувства которого притязаешь, слишком неравнодушен к нему; а можно ревновать это лицо по той причине, что ты сам остановил на нем свой выбор и не хочешь ни с кем делить его чувство. Третья возможность заключается в наличии и того и другого, а это-то и есть совершенная ревность, и, по существу, Иосиф был не так уж не прав, приписывая своему случаю именно совершенство. По его мнению, он был растерзан и похищен не только и даже не прежде всего для наказанья Иакова – или, вернее, похищен с целью такого наказания главным образом потому, что он, Иосиф, сам был объектом сверхвластного избрания, могущественной алчности, ревнивейшей облюбованности, – был им в том смысле, о котором Иаков, наверно, с тревогой догадывался, но который был весьма далек от его собственной, степенной и еще не доведенной до такого лукавства отцовской любви. Мы вполне отдаем себе отчет в том, что такая идея, что такая окраска отношений между творцом и его творением может показаться странной, даже оскорбительной и при нынешнем взгляде на вещи; ибо нам она так же несвойственна, как и степенному отцовскому разуму. Но она занимает свое место во времени и развитии, и, зная душу человеческую, можно не сомневаться, что многие дошедшие до нас плодотворные диалоги Того, на Кого Нельзя Глядеть (какое бы имя Он ни носил), с его учеником и любимцем, протекавшие под защитой облака, носили чрезвычайно пикантный характер, который иосифовскую точку зрения принципиально оправдывает, обусловливая ее справедливость разве что личным Его достоинством, о котором мы не станем судить.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу