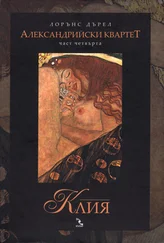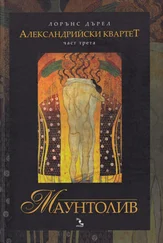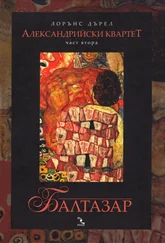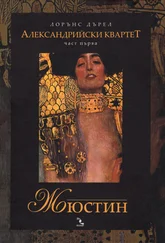Я знал их в лицо задолго до того, как мы встретились по-настоящему, – как и любого другого человека в городе. В лицо, да еще по слухам: они многое себе позволяли, совершенно не считались с условностями и того не скрывали – как тут ускользнешь от внимания провинциальных кумушек обоего пола. О ней говорили, что у нее была куча любовников. Нессима же считали mari complaisant [25] Мужем, закрывающим глаза на неверность жены ( фр. ).
. Несколько раз я видел, как они танцуют: он – почти по-женски стройный, с низкой талией, красивые длинные руки изящно изогнуты; изумительная головка Жюстин – по-арабски изысканная линия носа, сияющие глаза, зрачки расширены от белладонны. И взгляды, которые она бросала вокруг, – полуприрученная пантера.
А потом: как-то раз меня уговорили прочитать лекцию о поэте, единственной родиной которого был Город, – в Atelier des Beaux Arts (нечто вроде клуба, где не лишенные способностей дилетанты могли встречаться, снимать студии и так далее). Я согласился, ибо это означало возможность добыть немного денег на новое пальто для Мелиссы, а осень была уже на носу. Но и согласиться было трудно, слишком отчетливо я ощущал его присутствие, и сам воздух сумеречных улиц вокруг лекционного зала был словно заряжен ароматом его стихов, по капле отцеженных из пережитых им неуклюжих, но дарующих радость романов, – эта любовь, быть может, и куплена была за деньги, и длилась лишь несколько минут, но его стихи обрекли ее на вечность – так свободно и нежно присваивал он каждый миг, заставлял его сиять каждой гранью. Что за нелепость, что за дерзость – почитывать лекции о мастере иронии, который столь естественно и с таким безупречным чутьем подбирал свои сюжеты на улицах и в борделях Александрии! И обращаться при этом не к залу, забитому мелкими клерками и приказчиками из галантерейных магазинов – его Бессмертными, – но к знающему себе цену полукругу светских дам, для которых та культура, что за ним стояла, была чем-то вроде банка крови: они и приходили сюда за новым вливанием. Многие из них ради этого оторвались от вечернего бриджа, хотя знали, что вместо возвышенной болтовни могут получить щелчок по носу.
Я помню только, что говорил им о том, как меня преследовало его лицо – пугающе печальное и умное лицо с последней фотографии; и когда супруги уважаемых граждан города просочились – капля за каплей – вниз по каменной лестнице на вечерние влажные улицы, где их ждали освещенные изнутри автомобили, и в длинной мрачноватой комнате догорело эхо запахов их духов, я заметил, что одна взыскующая искусства и страстей душа все-таки осталась. В самом конце зала задумчиво сидела женщина, по-мужски закинув ногу за ногу, и курила, уставясь в пол, словно бы и не замечая моего присутствия. Мысль, что, по всей вероятности, хоть один человек понял, как мне было трудно, мне польстила. Я сгреб в охапку ветхий плащ и волглый портфель и направился туда, где вылизывала улицы пришедшая с моря мелкая и вездесущая морось. Шел я к себе на квартиру, где к этому времени Мелисса, наверно, уже встала и, может быть, даже накрыла ужин на столе, застланном газетой, послав предварительно Хамида к булочнику добыть кусок жареного мяса – у нас не на чем было готовить.
На улице было холодно, и я свернул на залитую светом магазинов Рю Фуад. На витрине у бакалейщика я увидел маленькую банку маслин с надписью Орвьето и, в порыве внезапной зависти к тем, кто живет по нужную сторону от Средиземного моря, зашел в магазин; купил ее; попросил открыть ее прямо здесь и сейчас; и, присев за мраморный столик, залитый кошмарным неоновым заревом, начал есть Италию, ее обожженную солнцем темную плоть, ее по весне возделанную землю, ее святые виноградники. Я знал, что Мелисса этого не поймет никогда. Мне придется сказать, что я потерял деньги.
Поначалу я не заметил огромного автомобиля, который она, не выключив мотора, оставила на улице. Она вошла в магазин, быстро и решительно, и сказала тем властным тоном, которым лесбиянки и женщины со средствами разговаривают с заведомо нищими: «Что вы хотели сказать этой фразой об антиномичной природе иронии?» – или еще какую-то колкость в этом же роде, я точно не помню.
Не в силах оторваться от Италии, я раздраженно поднял глаза и увидел, как она наклоняется ко мне сразу в трех зеркальных стенах магазина, увидел ее смуглое лицо и на лице – возбуждающую смесь заносчивости, сдержанности и интереса. Само собой, я давно забыл – что я там говорил об иронии, да я и вообще не помнил, чтобы я о чем-то лично ей говорил – я ей так и сказал, с безразличием, в котором не было и капли наигранности. Она выдохнула – кратко и с таким явным облегчением, словно я здорово ей помог, села напротив меня, закурила французскую caporal и принялась задумчиво расчерчивать ядовитый неоновый воздух короткими струйками дыма. Мне она показалась несколько взвинченной, еще меня слегка раздражала бесцеремонность, с которой она меня разглядывала, – словно пытаясь решить – к чему бы меня приспособить. «Мне понравилось, – сказала она, – как вы цитировали его стихи о городе. Ваш греческий совсем неплох. Спорим, вы писатель?» Я сказал: «Спорим». До чего все-таки унизительно быть безвестным. Продолжать мне не хотелось. Я всегда терпеть не мог литературной болтовни. Я предложил ей маслину, и она съела ее быстро, как-то по-кошачьи выплюнув косточку в ладонь в перчатке, и сказала, продолжая держать косточку в руке: «Я хочу отвезти вас к Нессиму. Это мой муж. Вы поедете?»
Читать дальше