– Ой, старбень, – добродушно заметил Олеша, воткнул шило в паз и пошел за печь к умывальнику.
Грибной суп уже закипал в чугунке. Я разглядывал многочисленные фотокарточки в деревянных рамках, украшенных фольгой от чайной упаковки.
Почти все снимки так или иначе связаны были с Густей – единственной дочерью Олеши и Настасьи. Я ее хорошо помнил, помнил с тех пор, когда, будучи еще мокроносым, ходил на гулянки. Густя, приезжая с лесозаготовок, все время плясала с Козонковой Анфеей, они очень стройно и слаженно пели частушки на каждый житейский случай. Сразу после войны дороги подружек разошлись: Анфея уехала в Архангельск, а Густя тоже куда-то исчезла.
Разглядывая снимки, я увидел относительно нестарую фотографию Анфеи, воткнутую поверх стекла. Анфея сфотографировалась с серьгами и вся барашковая от свежих кудрей, словно каракуль. Левая ее рука (с часами) держала букет. На другой стороне снимка я прочитал автограф Анфеи: «Смотри на мертвые черты лица и вспоминай живую. Густе от Нелли. Снимок сделан в возрасте 30-ти лет».
Вот тебе раз! Оказывается, Анфея давно никакая и не Анфея, а Нелли! А я-то, дурак, сколько раз называл ее Анфеей. Правда, к ее чести, она не обижалась и не поправляла, а может, дома, в деревне, прежнее имя и для нее самой звучало нормально.
В следующей рамке красовались открытки с не очень известной киноактрисой и с байкальским пейзажем, а между ними помещался пожелтевший снимок, изображавший молодую чету. Он в хромовых сапогах и в косоворотке с поясом, в картузе и с красивыми черными усами стоял, трогательно положив руку на ее плечо, глядя серьезно, ласково и как-то застенчиво-грустно. Она же, красивая и пышногрудая, в фате-кашемировке, в длинном платье с буфами, в высоких, со множеством пуговок полусапожках, сидела на ампирном стуле с платочком в руках и глядела бесхитростно, но в то же время с кроткой суровостью.
Поистине было трудно узнать в этой чете Олешу с Настасьей. В той же рамке помещалась фотография Густи и густобрового, явно кавказского молодца: парень был достойный, но сидели они до того неестественно, что так и хотелось поморщиться. Видно было, что перед тем, как снимать молодых, фотограф силой, бесцеремонно пригнул их головы друг к дружке, сказал «спокойно» и уж только тогда щелкнул затвором. Ничего себе спокойно! Они сидели головами впритык, с изогнутыми шеями, а им еще приказано было улыбаться. На другом снимке тот же парень был один и выглядел куда симпатичнее – в солдатской блинчатой пилотке, в одной майке, из-под которой даже на фотографии курчавилась богатая смоляная флора (или фауна? Я вечно путаю два этих термина). Дальше, как я ни глядел, но кавказского парня не увидел, а увидел другого – тоже солдата, вернее, сержанта, сперва в мундире, а потом без, рядом с Густей и врозь.
– А это кто?
– Этот тоже варяга, – хмуро сказал Олеша. – Из-под Мурманского.
Я вздохнул, но меня несколько развлекло то обстоятельство, что Олеша делил зятьев на «своих» и «варягов» не столько по национальному признаку, сколько по признаку дальности расстояний.
Тем временем суп у Настасьи сварился, она постелила на стол скатерть. Олеша нарезал сельповского хлеба. Я не стал выкамариваться и, не дожидаясь второго приглашения, сел за стол. Уж больно вкусно пахло грибным наваром, да и время было как раз обеденное. К тому же, питаемое всухомятку, все мое нутро давно жаждало супа.
– Ну-ко, солите, ежели, сами, – сказала Настасья и, перекрестясь, взяла ложку.
Вдруг Сутрапьян с лаем вылетел из-под лавки, потому что ворота скрипнули. В дверях показалась Евдокия, левой рукой она то и дело терла глаза, а в правой держала письмо.
– Вот, девушка, почтальонка-то подала, говорит: отдай.
– Да чего с глазом-то?
– Ой, не говори, солому трясла, да мусорина с ветром и залетела. Ради Христа, вынь, не знаю, чего и делать!
Настасья считалась в деревне не то чтобы полной ворожеей, но специалистом. Она останавливала кровь, заговаривала зубную боль – причем зачастую успешно, – знала толк в болезнях животных, чирьи же сводила с любого места, и все бесплатно, за одно спасибо. Вот только грыжи были ей не под силу. Мастерица была она и доставать мусорины из глаз – языком. Даже ячменная ость – вещь самая опасная для глаз – не могла устоять перед Настасьиным мастерством.
– Ну-ко, садись!
Настасья усадила Евдокию на пол, сама села рядом, ногами в противоположную сторону. Потом взяла руками голову Евдокии и, зажмурившись, приступила к операции.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу


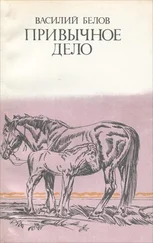

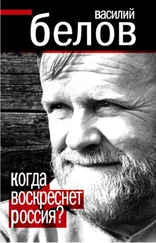
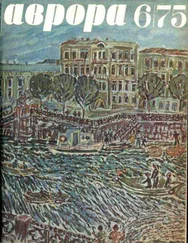


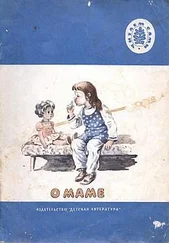

![Василий Белов - Волшебное слово [Сказки]](/books/393402/vasilij-belov-volshebnoe-slovo-skazki-thumb.webp)
