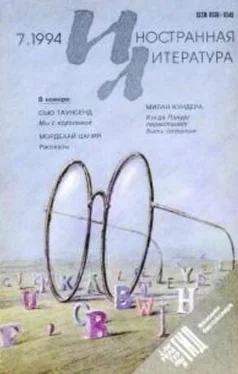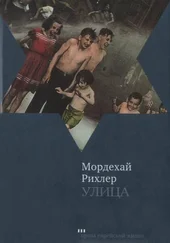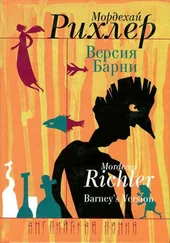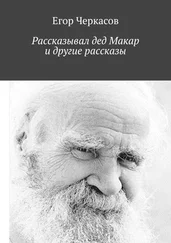Мордехай Цанин - Рассказы
Здесь есть возможность читать онлайн «Мордехай Цанин - Рассказы» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Город: Москва, Год выпуска: 1994, Издательство: Иностранная литература, Жанр: literature_20, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Рассказы
- Автор:
- Издательство:Иностранная литература
- Жанр:
- Год:1994
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Рассказы: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Рассказы»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Рассказы — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Рассказы», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
За годы скитаний, большей частью в морозном и всегда затянутом ночным мраком Беломорске, я приобрел некоторый запас выдержки и хладнокровия, черт, присущих характеру русскому. Чтобы выжить, мне пришлось усвоить тогда эти качества, которые я там не оставил, а увез с собой и взращивал потом в киббуце, в новой жизни. Только потому я не вышиб сейчас двух-трех передних зубов этому дураку доктринеру, не повыбивал стекла в его кабинете, а даже, напротив, собрав остаток спокойствия, тихо ему сказал:
— Поляки-антисемиты говорили, что от евреев несет чесноком и луком, вы же дальше идете и заявляете, что даже не от евреев уже, а от самих их еврейских имев разит галутом. Не извольте гневаться, но я скажу вам: от вас разит большевистским начетничеством, притом, что вы, наверное, сионист, и, может быть, сионист неплохой. Дело, видите ли, в том, что каждому «изму», будь он левый или правый, присущ собственный большевизм. Разумеется, не всякий большевизм имеет в своем распоряжении Сибирь, чтобы сгонять туда тех, кто не желает разговаривать фразами из «Краткого курса». Ведь, не будь того идеала, что созрел в умах и душах людей именно, извините, галутных, не было б здесь сегодня еврейского государства и не сидела б тут ваша персона, комментирующая мое еврейское происхождение и мое еврейское имя. Вы оперируете фразами из «Краткого курса» уже вашего большевизма и повторяете бред о том, что наши евреи шли на закланье, как овцы. Только люди, мучимые, возможно, тайным чувством вины, люди, сидевшие сложа руки, в то время когда нацисты сжигали миллионы евреев, только такие люди могли выдумать этот жалкий и дешевый поклеп на истинных героев, своими страданиями заслуживших и получивших право — и народы мира, сами испытывающие это чувство вины, признали это их право — на свое, на еврейское государство.
Выслушав мою тираду, чиновник, точно вовсе меня и не слушал, сказал голосом адвоката, заранее получившего свой гонорар:
— Запомните, адон [17] Господин (иврит).
, что я сегодня вам говорю, — он взглянул на свои наручные часы, как будто часы записывали его слова, — с таким именем, как Стефан Шахари или Стефан Шахор, вы сумели б достичь всего, на что вы способны. А с вашим Авраамом Иехошуа Хэшлом Кригером вы так и останетесь здесь пришельцем, чужаком.
После этих его слов гнев мой разом улегся: ну что с него взять? Время, прожитое в киббуце, в замкнутом идеальном мирке реализованных принципов социализма, без забот о куске хлеба, изолировало меня от внешнего мира, я почти ничего не знал и не мог знать о тех сложных общественных процессах и сдвигах, которые шли в стране. Я верил, а может быть, мне хотелось верить, что все израильское общество, все социальные слон в молодом государстве живут ценностями, легшими в основу уклада киббуцной жизни. Чиновник — сам, скорее всего, того не желая — распахнул передо мной дверь в реальность, в действительность, и эта действительность меня потрясла.
Как и в те давние дни, когда я, бежав от Ядвиги и Пробираясь к Бугу, должен был бы, если б не моя истерия, остановиться и, поразмыслив спокойно, вернуться к ней, к девушке, чье польское происхождение и католическая вера служили мне надежной защитой, как и позже, когда мне следовало к ней возвратиться из Лемберга, где никак не мог я решить, кем мне быть: евреем, поляком или украинцем, так теперь единственной для меня разумной возможностью было бегство обратно, вспять, назад из этой ошеломившей меня действительности, назад в прошлое, вплоть до тех самых дней и пределов, где я снова бы мог стать собой и опять с гордостью называть себя Авраамом Иехошуа Хэшлом, этими тремя истинно еврейскими, благороднейшими именами цадиков и мудрецов, именами, побуждавшими отдаваться мне даже отвергших или просто не признающих этих цадиков и мудрецов женщин, евреек и неевреек.
Соблазн возвратиться в прошлое, пройти весь обратный во времени путь так, усиливался и рос во мне, словно это и вправду было возможно. Утром, в мире реальном, я говорил себе, что доведу себя до сумасшествия, стану настоящим маньяком. Я, испытанный, стойкий рационалист, впал в мечту, грежу о чем-то бессмысленном, о том, чтобы день ото дня становиться моложе, еще раз пережить прожитое, опять спать с женщинами, которые укладывались в постель со мной, дойти, добраться во времени до знойных ночей, проведенных с Ядвигой, хранительницей и спасительницей самой жизни моей. Оказаться опять в Беломорске, услышать колокольчиковый голос Кати, напевность, с которой читает она стихи Пушкина или Есенина. Еще раз испытать все опасности, страхи… Самое в этом нелепое было то, что по ночам, во сне или в полудреме, все невозможное становилось возможным и почти реальным. Ядвига с ее золотистыми косами, упавшими ей на грудь, ее черный эбонитовый крест, свисающий с шеи, Ядвига в видениях прощала меня и мое предательство. «Дети порой совершают ужасные глупости, — говорила она, — а ты у меня совсем как дитя». В грезах моих я рассказывал Кате, как я предал Ядвигу, бросил ее без слова прощания, черной неблагодарностью отплатив за все, чем была она для меня, за спасенную, может быть, свою жизнь. Катя смеялась, как колокольчик, и объясняла, что предательство мое — не предательство, ведь я предал ее в первый раз, а любой поступок, совершаемый впервые, может оказаться глупым, неверным, но в другой раз человек эту глупость, не повторит…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Рассказы»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Рассказы» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Рассказы» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.