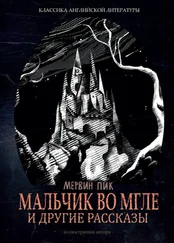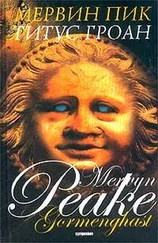И пока она в один из безмолвных вечеров, лежала, раскинувшись, на кровати – ладони сложены под затылком, мысли печальной кавалькадой следуют одна за другой, – Мордлюк, теперь отделенный от Юноны сотней миль, сидел за шатким трехногим столиком в иных лучах того же жаркого, все и вся облегающего солнца.
Вправо и влево от него уходила захламленная улица. Улица? Нет, скорее проселочная дорога, ибо, наравне со всем, что видел вокруг себя Мордлюк, она была доделана только наполовину, а после оставлена. Заброшенные замыслы беспорядочно покрывали здешнюю землю. Так и не обретшая завершенности, она не нашла своего предназначения. Построенная на скорую руку деревня, упустившая десятки возможностей обратиться в город. У нее никогда не было прошлого, а потому и будущего. Но событий в ней происходило хоть отбавляй. Каждый летящий миг наполнялся лихорадочной суетой на одном ее конце и беспробудной спячкой на другом. Вдруг начинали звонить колокола, но им немедля затыкали зевы.
Собаки и дети сидели, утопая задами в глубокой белой пыли. Сложная сеть канав, вырытых некогда для возведения задуманных театров, храмов и рынков, обратилась для здешних детей в поле битвы, обычному детству и не снившееся.
День был дремотен. День беззвучной сонливости. Предаваться в подобный денек каким-либо трудам, означало бы – нанести оскорбление солнцу.
Кофейные столики уходили дугой на юг и на север – самая шаткая линия перспективы, какую только можно вообразить, – за столиками расположились группки людей, являвших великое разнообразие лиц, телосложений и жестов. Впрочем, существовал и объединявший все группы общий знаменатель. Во всей этой обширной компании не отыскивалось человека, который не выглядел бы только что вылезшим из постели.
Некоторые были в башмаках, но без рубашек; другие башмаков не имели, зато красовались в бесконечного разнообразия шляпах, насаженных на головы под бесконечным числом углов. Обветшалые головные уборы, обтрепанные жилетки и пелерины, ночные рубашки, стянутые на поясницах кожаными ремнями. Мордлюк, восседавший за столиком прямо под недостроенным памятником, чувствовал себя в этом обществе как дома.
В пыли чирикали и хлопотали крыльями сотни воробьев, самые смелые запрыгивали на кофейные столики, где пунцовели под солнцем традиционные чашки без ручек и блюдец.
Мордлюк был за своим столиком не одинок. Помимо дюжины воробьев, которых он время от времени ладонью сметал со стола, точно крошки… помимо них, здесь присутствовал еще и разного рода человеческий сброд. Этот конклав можно было условно подразделить на три части. Первую составляли те, кто не нашел себе лучшего занятия, чем таращиться на Мордлюка, ибо они никогда еще не видели человека, столь раскованного или равнодушного к бросаемым на него взглядам; человека, таким манером развалившегося в кресле, пребывающего в столь апатичном состоянии окончательного упадка сил.
При всей виртуозности, с какой упражнялись сами они в искусстве ничегонеделания, им отродясь не случалось видеть ничего, сравнимого с тем размахом, с каким предавался оному этот могучий скиталец. Он был, казалось им, олицетворением всего, во что они бессознательно веровали, вот они и глазели на него, как на собственный прототип.
Они глазели на огромный румпель его носа, на его надменную голову. Однако и понятия не имели, что в ней поселился призрак. Призрак Юноны. Отчего и взгляд Мордлюка был устремлен на что-то, находившееся далече отсюда.
Следующим за Мордлюком полюсом притяжения, купавшимся в мягком, горячем свете, была его машина. Все та же, норовистая, вздорная зверюга. Мордлюк, по обыкновению, привязал ее, ибо машина, в ржавом нутре которой все еще бурлила вода, имела склонность в мгновения совершенно непредсказуемые пропрыгивать ярд или около того, такой у нее был рефлекс. Сегодня Мордлюк пришвартовал ее к незавершенному, лишь наполовину достроенному памятнику какому-то почти забытому анархисту. У памятника она и стояла, подергиваясь, на привязи. Подлинным воплощением гневливости.
Третье из средоточий всеобщего внимания находилось в кузове машины – там дремала на солнце обезьянка Мордлюка. Никто из здешних никогда прежде обезьяны не видел, вот они и дивились на нее – не без испуга, – предаваясь дичайшим домыслам.
После трагедии, постигшей Мордлюка, зверек этот стал для него еще более, чем когда-либо, близким товарищем, в сущности, символом всего, что он потерял. И не только символом, обезьянка поддерживала в горчайших уголках его разума память о страшной бойне, о том, как выгибались под ударами животных прутья клеток, как его птицы и звери испускали последние крики.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу


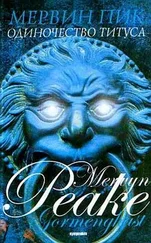

![Мервин Пик - Титус Гроан [liters]](/books/32928/mervin-pik-titus-groan-liters-thumb.webp)