– Правда, идти пора! – недовольно зашумели женщины. – Весь день на холоду! И чего к девчонке пристал: не убыль ведь, а прибыль.
– Прибыль?.. – озадаченно повторил конвоир. – Прибыль, значит? А откуда ты взялась тут, прибыль?
Он вдруг схватил ее за ватник, рванул на себя; Мирра едва устояла на ногах.
– Подвальчиком пахнет? Подвальчиком?.. Господин обер-ефрейтор! Ах, зараза, ах, стерва, выползла на божий свет? Господин обер-ефрейтор!
– Пойдемте, – задыхаясь, бормотала Мирра, а он тряс сильной рукой за ватник, и голова ее беспомощно болталась из стороны в сторону. – Пойдемте. Прошу вас. Пожалуйста…
– Откуда взялась? Откуда?
Он вдруг оставил ее и шустро побежал навстречу пожилому неторопливому немцу, что шел к ним от головы колонны. И Мирра, постояв секунду, тут же пошла за ним, потому что строй прикрывал ее от Плужникова.
– Вот она, господин обер-ефрейтор. Вот она, лишняя. Из подвалов, видать, вылезла.
Мирра уже не слышала, о чем он еще говорил. Она видела только мелкое, незначительное лицо немолодого обер-ефрейтора, и это такое обычное усталое лицо было для нее пугающе знакомым. Она еще боялась признаться в этом самой себе, она еще верила во что-то, равное чуду, но чуда не было, а немец был. И не этот – с красным замерзшим носом, а тот, трясущийся, перепуганный, дрожащими руками перебиравший фотографии собственных детей.
– Юде! – закричал немец, уткнув в нее худой узловатый палец. – Юде! Бункер! Юде! Бункер!
– Ну, чего к девчонке привязались? – кричали женщины, а конвоиры бегали вдоль строя, угрожающе покачивая штыками. – Идти пора, застыли! Девчонку-то оставьте, наша она! Да нет, не наша! Наша… Не наша…
– Юде! Бункер! Юде! Бункер! – выкрикивал немец, пятясь, потому что Мирра шла прямо на него, уже ничего не видя и не слыша. Шла, движимая лишь одним желанием уйти подальше от той бойницы.
Кажется, женщин все-таки повели, а может быть, и не повели, а ей только показалось, потому что в ушах ее стоял звон, сквозь который прорывалось лишь два страшных слова: «Юде!», «Бункер!», «Юде!», «Бункер!». Сердце ее то сжималось, замирая в предчувствии чего-то страшного, то начинало бешено биться, и тогда ей не хватало воздуха. Она ловила его широко разинутым ртом и шла, шла, шла вперед, все дальше оттесняя немца.
И даже когда ее ударили – ударили прикладом, с размаху, со всей мужской злобой, – она не почувствовала боли. Она почувствовала толчок в спину, от которого странно дернулась голова и рот сразу наполнился чем-то густым и соленым. Но и после этого удара она продолжала идти, почему-то не решаясь выплюнуть кровь, и казалось, не было силы, способной остановить ее сейчас. А удары все сыпались и сыпались на ее плечи, она все ниже и ниже сгибалась под этими ударами, инстинктивно защищая живот, но думая уже не о том, кто жил в ней, а о том, кто навсегда оставался сзади, и из последних сил стремясь уберечь его. И когда ее все-таки свалили, она, уже теряя сознание, еще упорно ползла вперед, неудобно волоча закрепленную в протезе ногу.
Она еще ползла, когда ее дважды проткнули штыком, и эта двойная пронзительная боль была первой и последней болью, которую она почувствовала и приняла всем своим хрупким и таким еще теплым телом. Яркий свет полыхнул перед ее крепко зажмуренными глазами, и в этом беспощадном свете она увидела вдруг, что у нее уже никогда не будет ни маленького, ни мужа, ни самой жизни. Она хотела закричать, напрягаясь в последнем животном усилии, но вместо крика из горла хлынула густая и вязкая кровь.
Уже теряя сознание, уже плывя в липком и холодном предсмертном ужасе, она еще слышала удары, что сыпались на ее плечи, голову, спину. Но ее не били, а, – еще живую, торопясь, – заваливали кирпичом в неглубокой воронке за оградой Белого дворца.
Низкие тучи, что столько дней висели над самой землей, лопнули, разошлись, в прогалину выглянуло бледное небо, и далекий отсвет давно закатившегося солнца нехотя высветлил кое-как выровненную дорогу, угол разбитого здания, кусок разрушенной ограды и наспех заваленную воронку. Высветлил и исчез, и небо вновь затянуло серыми, осенними тучами.
Он опять потерял счет дням. Лежал в черном, как небытие, мраке, слушал, как крысы грызут остатки сухарей, и не было сил ни на то, чтобы встать и перепрятать эти сухари, ни на то, чтобы вспомнить, какое сегодня число. Он не знал, сколько дней провалялся без пищи и воды, забравшись под все шинели, ватники и бушлаты. Когда вернулось сознание, с трудом дополз до воды, пил, впадал в странное забытье, приходил в себя и снова пил. А потом добрался до стола, нашел сахар и сухари, что еще не успели сожрать крысы, горстями ел этот сахар и грыз сухари, хотя есть совсем не хотелось. Ел, насилуя себя, потому что болезнь отступила и теперь надо было подниматься на ноги.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
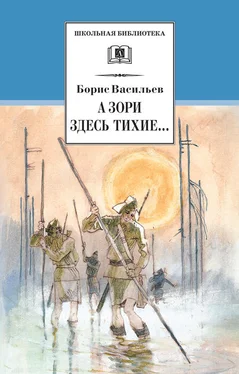


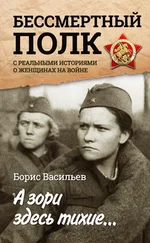







![Борис Васильев - А зори здесь тихие… В списках не значился. Рассказы [с комментариями верстальщика]](/books/424400/boris-vasilev-a-zori-zdes-tihie-v-spiskah-ne-zn-thumb.webp)
